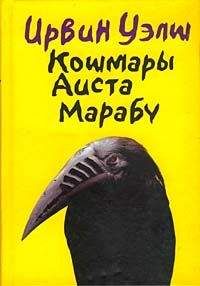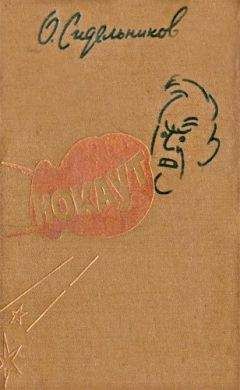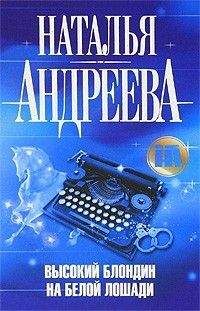— И очень хорошо, что просто, — согласился Вилька. — Скоро никаких агитаторов не будет. Вместо них — пилюли. Проглотил одну перед завтраком — все равно что лекцию о международном положении прослушал, другую перед обедом — о моральном облике молодого человека, а на сон грядущий — пилюля о любви, дружбе и товариществе.
— Ну и язык у тебя, прямо для пятьдесят восьмой статьи уголовного кодекса, — вздохнул Павка.
— Ты из терпенья выводишь. Ну скажи, куда мы едем — в Ташкент город хлебный? На фронт ведь едем. Сами, не ожидая «особого распоряжения». Так зачем же меня все время взбадривать? Я не дохлая лягушка, чтобы пропускать через меня гальванический ток. Другое дело, скисну, трухану, колебаться начну… Пожалуйста, накачивай. Но осторожно, незаметно. Я, злюсь, когда меня агитируют, свирепею.
Эшелон катил, катил навстречу неизвестности. Порой колея выгибалась дугой, и тогда были видны пыхтящий паровоз, весь эшелон с концевым вагоном, на крыше которого торчал зенитный пулемет, открытые двери теплушек, свесившиеся из них ноги бойцов, греющихся на солнышке, две платформы с зачехленными орудиями, походные кухни, бруски прессованного сена.
— Зачем везут сено? — спросил серьезно Глеб. — Лошадей нет, а сена навалом.
— А ну тебя, — отмахнулся Павка. — Слушай, Вилька, ты в одном не прав. — Ты — еж. А где уж, понимай сам, знать ежу, что такое жизнь. Ты честный, наш, но анархист и, пожалуй, циник. Но это пройдет. О чем ты думаешь сейчас? О боях и победах. А я думаю о девочке, которую обидел в третьем классе. Голодовка тогда была, но я об этом не знал — выручал папин спецпаек. Я ходил в школу, спрягал глаголы и на большой перемене жрал бутерброды с маслом и красной икрой. Именно жрал — всенародно, громко чавкая и облизывая пальцы.
Меня сторонились мальчишки, при случае колотили. А девчонка, сидевшая со мной за одной партой, просто презирала. Она держала себя так, словно меня не существовало в природе. Я списывал у нее контрольные, точил ее ножичком карандаши и удивлялся: странная девчонка!
Однажды, решив все-таки вытянуть из нее хоть слово, сказал ей на большой переменке: «Хочешь кусочек?» и отломил от бутерброда четвертушку.
Девочка всегда-то была худущая, как доска, а в этот день она совсем смахивала на тень. «На, бери, мне не жалко», — великодушно повторил я. Но она молчала. Только закрыла глаза. И так сидела, всю перемену. А на следующем уроке ей стало плохо, и она упала.
Павка умолк, посмотрел в небо, задумался.
— Дальше, рассказывай дальше…
— Дальше? Я узнал тогда все. Узнал, что очень трудно жить в голодовку детям, если их в семье восемь душ, а отец горький пьяница. Я понял, что человеку дороги не слова, а слова, подкрепленные делами. Но главное, я сделал открытие: жизнь тогда хороша, когда она посвящена другим людям… Сейчас я еду защищать эту девочку… всех… И когда я увидел хуторок, представил его в огне и развалинах… А ты говоришь — вливание. Жизнь — это сплошная агитация поступками. И ты, Вилька, тоже агитатор. Но ты об этом пока не подозреваешь, из-за скудоумия.
В разговор вмешался Глеб. Он все время помалкивал, изредка поглядывая на прессованное сено (назначение его не давало ему покоя), и внимательно слушал. А сейчас Глеб вмешался. Мы приготовились выслушать очередную «теорию». Но Глеб заговорил нормально.
— Ребята, — желтовато-зеленые, кошачьи глаза его от избытка чувств заволокло слезами. — Ребята!.. А мы молодцы, что избрали Павку старшим. Ей-богу, он умный! И ты, Вилька, тоже умный, только немного дурак. Если бы не он, — Глеб почему-то с силой ткнул Павку в плечо, — если б не Павка… Сидели бы мы сейчас дома или катили в эвакуацию, предаваясь сладким мечтам, и вообще… молодец, Павка, дай я тебя поцелую!
Глеб сграбастал друга, а тот отбивался и конфузливо бормотал:
— Вот же выдумал… Пусти…
Мне было легко, и душа улыбалась, потому что Глеб сказал именно то, о чем я думал. И я тоже полез обнимать Павку, рыжеватого, худенького Павку со смешным пушком над верхней губой.
— А что? — весело вскричал Вилька. — Что я — хуже других? Дайте-ка… Я тоже обниму нашего командира.
Возня привлекла внимание старшины.
— Э-гей, — детский сад! — прикрикнул он. — Что за балаган? От-ставить. Еще выпадете, а потом, отвечай за вас.
Мы присмирели. Но Вилька не отпускал Павку. И все что-то ему шептал.
— Вилька, — перебил его Павка, — только по-честному скажи… Ты какой-то не такой. Ты — сфинкс с семиклассным образованием.
Глеб опять затянул свое.
— ребята, — произнес он с надрывом, — зачем же нам это дурацкое сено?!
— Будут учить маршировке, как при царе Горохе, — охотно объяснил Вилька. — К одной ноге сено привяжут, к другой — солому, каковую раздобудут на месте. И порядочек: ать-два, сено-солома!
Глеб треснул Вильке по шее.
— Смотрите, смотрите! — вскричал Павка. — Птичья стая… Вон там, над лесом. Видите?..
Над зубчатой лентой леса, выбегавшего на пригорок, чернел крохотный журавлиный клин. Он был очень странный — вырастал прямо на глазах… издавая гул..; и вдруг превратился в рычащую стаю громадных птиц, горбатых, с хищно выпущенными лапами.
Гул и рев врезались в уши.
— …ле-о-ты… — раздался слабый нечеловеческий писк.
— Во-оздух!!!
Эшелон рвануло, заскрежетали тормоза, бойцов бросило в одну сторону, в другую, швырнуло на пол. С душераздирающим воем что-то обрушилось на крыши вагонов… Треск… в кромешной тишине на миг вспыхнуло яркое пламя. И тут же погасло, превратившись в тихий звон. А затем и звон исчез — наступила тишина, черная, как ничто.
Такие чудовищные кошмары мне никогда еще не снились. До крика хотелось проснуться, вскочить, но цепкие щупальца держали, прижимали, оплетали.
Все было как в тумане… Вспышки, что-то взлетает вверх, огромные тени скользят по траве, черные пятна…
Но вот пелена рассеялась. Я увидел дым и пламя, поваленный паровоз, из его развороченного бока вырывался белый столб и, клубясь, убегал к облакам. Несколько уцелевших теплушек в смертельном страхе жались к концевому вагончику, с его крыши протягивались к небесам, то и дело обрываясь, жалкие паутинки.
В небе разлапистые стервятники с мрачными крестами на угловатых крыльях подпрыгивали, как козлы, один за другим кидались на остатки эшелона, капали черным и круто взмывали вверх. Черные капли падали, росли, превращаясь в огонь и дым.
Повсюду горохом рассыпались человеческие фигурки. Капли искали их в ямках, за пнями, на ровном месте, окутывали дымом, вздымали вместе с фонтанами земли.
Почему я лежу возле штабеля бревен? Это ведь очень далеко от нашей теплушки! И отчего так тихо? Куда девались звуки? Железные птицы безжалостно добивают все живое, мчатся бесшумно и так низко, что видны они… черные кожаные головы с огромными глазницами — уэллсовские марсиане, сеющие смерть. Теперь они носятся над самой землей, жалят огненными струями.
Гигантский столб огня и дыма, качнулись и рассыпались бревна, сложенные в штабель… Один марсианский корабль врезался в землю. Рядом с растерзанным, паровозом. И тут же вспыхнул, закоптил вагон с зенитным пулеметом, успевшим перед смертью покарать чудовище.
…Марсиане исчезли. Неужели они привиделись во сне?
Нет, это не сон. Дым, огонь. Першит в горле от гари. В голове грохочут кувалдами невидимые кузнецы. Я пытаюсь подняться. Ноги заплетаются, подкашиваются. Опять одолевает кошмар… На траве, опрокинувшись на спину, лежит человек и скалит зубы. В его кулаке крепко зажат стебелек с голубеньким цветком. Да ведь это наш добряк старшина! Чуть пониже значка «ГТО» кровавое пятно… Еще… человек. Еще…
Я стою, покачиваясь, и ничего не понимаю. Кто-то берет меня за руку. Бледное лицо, черные в лихорадке глаза. Это Вилька. Он гримасничает ртом, должно быть, говорит. Но я ничего не слышу — в голове звон, гул. Мы садимся на бревно. Откуда-то появляется Глеб — хромает, без пилотки, и тоже шевелит губами. Должно быть, спрашивает, где Павка.
В самом деле, куда он девался?
Проходит минута или час… Мы ищем Павку, но находим других — молодых и уже взрослых бойцов, командиров. Одни, как наш старшина, никогда больше не встанут, другие пытаются подняться. А Павки нет. Где же он? Где?
…Возле бревен — кучка бойцов, они суетятся, что-то раскапывают лопатками, руками. Мы бредем туда. Из земли торчит сапог. Помогаем раскапывать. Вытаскиваем человека… У меня обрывается сердце — знакомые волосы, они отливают бронзой! Санитар вытирает его лицо бинтом…
— Павка! — кричу я, но ничего не слышу м сажусь на землю-. Рядом с ним.
Я никого и ничего не вижу — только Павку. Он еще жив, глаза полны жизни, и пальцы то сжимаются в кулаки, то распрямляются. Но губы не шевелятся, лишь изредка вздрагивают.
Чьи-то руки расстегивают Павке пояс, поднимают гимнастерку — на загорелой коже наискось по животу кровавая строчка. Чьи-то руки разрывают пакет с бинтом, в нерешительности застывают и исчезают.