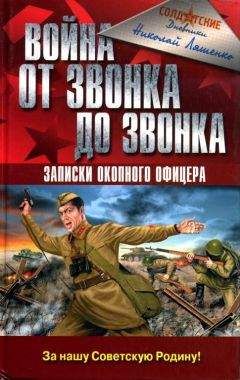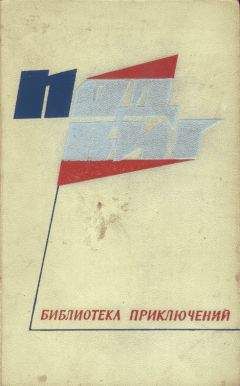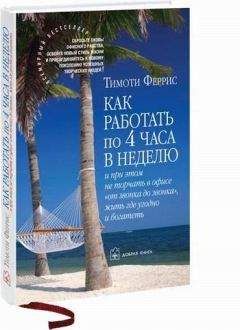Началась спешная пересадка орудий с дороги на линию. Сначала высадили на полотно отставшую от обоза пароконную повозку, груженную снарядами. Затем дружно взялись высаживать одно за другим и орудия. Тяжело нам достались 152-мм орудия. Это такие «свинки», с которыми без домкрата ничего не сделаешь. Пока их высадили, немало было переломано оглобель, дышел и просто бревен. Ломов и кранов, к сожалению, при нас не оказалось. Все пришлось делать при помощи... дубинушки.
Наконец высадка орудий на линию закончилась, и полк муравьиной цепочкой, вытянувшись на целый километр, продолжил свой путь. Впереди каравана — метрах в трехстах-четырехстах шла повозка со снарядами, за ней тянулись орудийные запряжки. Хотя местами шпалы и подергивали лошадей, двигаться было куда легче, чем по грунтовой дороге. А мы, конники, ехали сбоку по той же проторенной передовыми частями дорожке.
Шел снег, встречный северо-восточный ветер, казалось, насквозь пронизывал все существо; если бы не тепло лошади, струившееся через потники и подушку седла, мы бы закоченели. Мороз, ослабев среди ночи, к утру делался все крепче и злее. Лошади, орудия, ездовые заиндевели, сливаясь с общей белизной, а мелкий снег все сыпал и сыпал, густо, будто из решета, устилая наш путь белым ковром. Видимость стала совсем незначительной. Лишь временами, раздвигаясь, тучи выталкивали луну, тогда снег почему-то прекращался и видимость увеличивалась.
Ехали, спокойно подремывая в седлах. Караван орудийных упряжек двигался по насыпи рядом также размеренно и спокойно. Снегопад понемногу редел, и в воздухе посветлело. И вдруг — что это?! Далеко впереди показался свет паровозных фар. Откуда мог появиться паровоз? Почему он идет к немцам? Диверсия врага? А может, это маневровый? Но до станции еще добрых десять километров и по карте — ни станции, ни разъезда. «Что за чертовщина!» — вслух выругался комполка. Напрягая зрение, мы всматривались вдаль. Свет делался все ярче, сомнений не оставалось — на нас шел паровоз. От предчувствия неминуемой катастрофы пробежала дрожь. На мгновение все оцепенели. А паровоз неотвратимо надвигался, мы уже четко различали его контуры, белый дым из трубы, слышали шум движения. Наша шедшая впереди подвода, груженная снарядами, остановилась. Спрыгнув с повозки, ездовой бросился к лошадям, стал сворачивать с колеи, но рельсы, зажав колеса, не отпускали повозку, а с ней и лошадей. Отстегнув висевшие на груди фонарики, мы принялись сигналить машинисту красным светом, описывая в воздухе круги и зигзаги, но это не произвело никакого впечатления — паровоз надвигался, не уменьшая скорости. Трагедия была неизбежна: орудия из колеи не выхватишь, надо долго высаживать вручную, оставались минуты... Водворив на место фонарики, мы выхватили пистолеты и стали часто стрелять вверх и в сторону паровоза. Но впереди уже раздался неистовый крик ездового, следом сильный треск и скрежет ломающейся повозки, лошади орудийных упряжек, подняв головы, дружно захрапели и забились в упряжках, явно намереваясь вырваться и отпрыгнуть в сторону, спешившиеся ездовые кинулись их успокаивать, а мы, соскочив с коней, уже бежали навстречу паровозу, не прекращая стрельбы. Паровоз, протащив впереди себя несколько метров изуродованную повозку, наконец стал, из кабины выглянуло перепуганное лицо машиниста, вокруг вились густые клубы пара, и невозможно было рассмотреть — что же произошло с ездовым, лошадьми, снарядами? Как свирепые гунны, набросились мы на машиниста! Его успели выдернуть из кабины, и он уже стоял в окружении разъяренной толпы, дрожа то ли от холода, то ли с перепуга, — крики! нецензурная брань! кто-то уже поднял кулак — избить этого тупого разиню! Машинист, подняв руки над головой, приготовился защищаться. Оценив обстановку, комиссар полка с криком: «Отставить! Отставить!..» — бросился, расталкивая толпу, остановил занесенный кулак и спросил как можно спокойнее:
— Расскажите, куда и зачем вы ехали?
Напуганный, машинист озирался, переминаясь, он не мог говорить.
— Вы не нервничайте, вас никто не тронет, — стали уговаривать комиссар и подошедший комполка.
И тот наконец смог заговорить.
— Да знаете, я четвертые сутки без смены. Эвакуировал составы с угрожающей территории. За последними вагонами ехали, только на седьмом разъезде остались. Жалко, чтоб немцу попали, в них, может, самое ценное. Да вот уснул, нечаянно, а кочегар не заметил. Вот и случилось. — Он взмахнул руками: — Ах ты, Господи, Боже мой, что ж нам будет теперь?
Говорил он с опущенной головой, виновато, с горечью, и нам всем стало нехорошо. Наверно, в глубине души каждый подумал: вот так, не разобравшись, в горячке, можно погубить человека — такого патриота и труженика.
— А вы знаете, что разъезд уже захватили немцы? — спросил комиссар.
— Да что вы?! — потрясенно воскликнул машинист.
— Да-да, — подтвердил командир. — А в вагонах ваших валенки были, мы их забрали.
— Ах ты, Господи! Знать, еще не суждено умереть, — сказал машинист, ухватившись, почему-то обеими руками за голову. — Хорошо, что валенки забрали, ведь зима, а нынче ранняя. — И тихо, будто сам у себя, спросил: — Господи, что ж нам делать-то теперь?
— А вот что! — сказал командир полка. — Давай-ка на задний ход да подбери вываленные ящики. Да еще раз помолись своему богу, что ни один не взорвался — ящики-то со снарядами. Вези их на станцию, потому что нам теперь везти их не на чем. — Показал на изуродованную повозку: — Не починишь, напрочь раздавил.
Машинист, ободренный таким исходом дела, крикнул:
— Сережа! Дай задний! Да потихоньку!
Паровоз натужно зашипел, чихнул несколько раз паром и тихо откатил назад.
Мы наконец увидели всю картину. Повозка лежала поперек рельсов вся наперекосяк, с переломанными колесами, вывалившиеся из короба ящики сползли под откос, а по ту сторону полотна стоял еще бледный ездовой и успокаивал, держа под уздцы, двух перепуганных лошадей.
Очистили путь от обломков, подогнали паровоз поближе и, чтобы ускорить дело, все вместе принялись подносить и подавать ящики на тендер. Взяв комвзвода боепитания, паровоз дал задний ход и быстро укатил домой, в Волхов. Ездовой повозки сел на лошадь, другую привязал сбоку и присоединился к нашей кавалькаде. Где-то далеко позади нас, грянуло несколько сильных взрывов. Это взлетела на воздух наша плотовая переправа.
Вот так противник проворонил уход нашей дивизии. А во время переправы фашисты, сами того не ведая, даже отсалютовали нам несколькими трассирующими очередями из пулемета. Да еще и заплатили при этом — семь солдат выбыли из «армии великого рейха».
Дивизия втягивалась в Волхов. Через несколько километров пути мы уже пересекали передовую линию обороны Волховской гидростанции, некоторое время мы даже видели станцию — огромную, она протянулась изогнутой темной лентой и вскоре скрылась в предутренней мгле.
Стали встречаться огневые позиции минометчиков и артиллеристов, а ближе к городу — и зенитчиков. Далеко на востоке занимался слабый рассвет. Ветер дул порывами, от этого снег сыпался то гуще, то совсем переставая. Но мороз, казалось, только усиливался. Над Волховом — ни огней, ни дымков. Затемнение и тишина в городе соблюдались идеально. Даже паровозы, маневрируя по станционным путям, лязгали на стыках будто с придыханием.
Устав сидеть в седлах, мы спешились и несколько километров шли пешком, ведя лошадей в поводу. Ночная дрема вроде уже прошла, но усталость только начинала развиваться. Мороз для меня не был новинкой, в жизни я не раз встречал почти вдвое более крепкий, чем нынешний тридцатиградусный, но тут почувствовал, что за дорогу не просто сильно промерз — закоченел. Наверно, сказались и бессонная ночь, и то, что со вчерашнего дня я ничего не ел; направляясь после обеда в инженерную разведку, я не предполагал, как затянется это предприятие, а в пути да еще при спешном выходе из окружения никто и не думал о еде.
В город мы вступили со стороны железнодорожной станции, здесь, на станции, должна была временно дислоцироваться наша дивизия. Поблагодарив офицеров артполка за предоставленную лошадь и внимание, я передал поводья ездовому, а сам зашел в первый попавшийся дом.
Дом оказался барачного типа, нижнее помещение — очень большое, целый зал, и весь пол, до самого порога, был завален спящими — вперемешку солдатами и офицерами. Что-то всколыхнулось во мне, подумалось: наши офицеры не искали иного, чем у солдат, комфорта, ведь они отличались от солдат только по чину и военной подготовке, но отнюдь не по социальному положению. Хотелось одного — упасть и забыться. От непривычной верховой езды ныли и подкашивались ноги, а внутри, казалось, закаменело. Осмотревшись, увидел свободное местечко у самой плиты, она уже притухала, но все еще излучала много тепла; осторожно пробравшись через спящих, я лег на пол рядом с бойцами, укрыл голову воротником полушубка и провалился в сон.