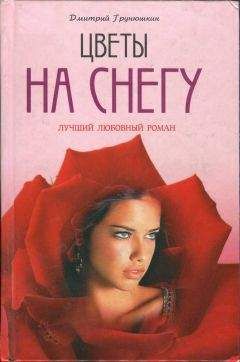Глядя на то, как они работают, до чего разумно их безотходное производство и какие оно приносило результаты, я только диву давался. В сарае имелась малая механизация всех видов, посредине двора был устроен великолепный бассейн-хранилище, емкостью кубометров на 50 для навозной жижи, который быстро наполняли животные, имевшиеся на подворье. Этой жижей удобряли каждый корень, имевшийся на полях, и серая земля, не чета кубанской, давала фантастические урожаи. Как же варварски эксплуатировали мы свой кубанский чернозем, который русские цари отняли у мусульман, а мы не сумели его использовать. Не стану описывать всех чудес, виденных мною в этом хозяйстве, расскажу только о результатах этого неутомимого труда, после которого, впрочем, можно было помыться и отдохнуть: в подвале дома стояло пять бочек вина, моравцы называли подвал бункером.
Во дворе огромный крытый черепицей сарай, хозяева называли его «бахауз», был разбит на пять отделений, каждое из которых были наполнено своим продуктом: пшеницей, овсом, ячменем, картофелем и прочим. Здесь же были отсеки для животных. Лошадей и коров держали отдельно. Половина просторного двора была забетонирована, и грязь не неслась в дом. Условия в доме ничем не отличались от городских. Животные пили воду из автопоилок, отодвигая мордой пузырь, закрывающий отверстие, из которого поступала вода. Здесь же, во дворе, был устроен маленький бассейн для любителей водных процедур — великолепных белых и серых гусей. Если бы такое хозяйство завести на Кубани, да еще в условиях человеческой свободы, то думаю, наша страна давно забыла бы о бесконечных продовольственных программах. Увы, с наибольшим жаром мои земляки разбирали чужие сараи во время коллективизации, отвозя полученные материалы на колхозный двор, где они благополучно гнили и пропадали.
Моравцы прекрасно знали наши порядки и, когда мы пробовали рассказать им, конечно, приукрашая и пропагандируя, как у нас, они лишь махали руками и произносили скептически: «Это у вас». Чувствовалось по тону, что более мрачной перспективы для себя они не представляли. Оказывается, им в кино показывали прелести нашего образа жизни: покосившиеся хаты, полуголых детей, бегающих босыми по грязи глубокой осенью, в период коллективизации и голода, заткнутые соломой окна и прочее, прочее.
Да и что мы могли предложить этим свободным людям, путешествующим по всей Европе: мебель «папа» покупал в Вене, а люстру и сельскохозяйственную технику в Германии. Интересно было наблюдать, как хозяева обходятся со всем своим богатством. Уж на что мы жили душа в душу, но стоило закончиться войне, и уже на следующий день Сашка пришел с сообщением: хозяин передал — война кончилась и нужно платить за постой. Деньги были пустяковые, конечно, для меня, получавшего 1500 крон в месяц, всего 15 крон, но это была месячная зарплата батрака Мартина, который, кстати, скоро получил такую же усадьбу в Судетах, откуда выслали немцев, и уехал туда хозяйствовать, женившись на батрачке. Это весьма возмутило «папу» — был нарушен принцип — ни одной кроны, не заработанной тяжким трудом. Деньги у моравцев были тем самым средством учета, за который так ратовал Ленин. Сами по себе, без огромных бухгалтерий, они учитывали все и вся. Например, как-то к «маме» в гости приехала ее племянница, красивая молодая дама, жена директора фабрики «марафетки» или кондитерской, по-нашему. «Мама» угостила близкую родственницу, приехавшую с мужем, доброй кружкой хорошего жирного пахучего молока, надоенного от великолепных черно-рябых немецких коров, и отрезала по скибке свежего домашнего хлеба. Будучи человеком любопытным, я не отказался от угощения и закалякал с чехами о том, о сем. Чешский бизнесмен и предприниматель пытался меня обдурить по ходу дела: всучить мне свою старую «машинку», как говорят моравцы, потрепанную «Татру», вместо моей симпатичной «Опель Олимпии», названной немецким автомобильным магнатом в честь своей младшей дочери. Я объяснил чеху, что мою «Олимпию» нельзя сравнивать с его потрепанной «Татрой», а он предлагал дать еще кое-что сверху. Когда гости стали уходить, племянница дала какие-то деньги тете, а та выдала ей сдачу. Я обалдел: это было слишком даже для самого жлобского кубанского хозяйства. Когда гости уехали, я спросил «маму», за что она взяла деньги с племянницы. «Мама» строго ответила — за угощение и, предвидя мое удивление, снова с тем же ироническим выражением, сказала, что это не так, как у вас, разгильдяев. Так что, наша, так называемая «широта», воспринималась в Чехословакии без особенного энтузиазма. Чехи прекрасно знали, что грабеж — это ее обратная сторона.
Через несколько дней после войны один из работников, трудящихся в хозяйстве «папы», по моим наблюдениям, на редкость ленивая личность, имевшая аккуратный и подтянутый вид, которую «папа» почему-то не критиковал за лень и нерадивость, вдруг превратился в нарядного чехословацкого подполковника, который и возглавил делегацию, состоящую еще из сельского старосты и священника, явившихся ко мне на прием. Хозяин выставил графин прекрасного вина, до сих пор не входившего в мой рацион, нарезал сухой колбасы с пучком ароматных трав, бекона — кусочки по количеству присутствующих, свежего хлеба и мы, попивая прекрасное виноградное вино, стали толковать. Сначала о философии: о справедливом устройстве общества, правах и свободах личности. Однако получалось, что мы говорим на разных языках, я имею в виду не чешский и русский. Мы плохо понимали друг друга по сути поднимаемых проблем. Я нажимал на труды Маркса и Энгельса, которые, впрочем, и сам, в основном, видел только издали. Но и этих моих познаний хватало, чтобы приводить моих собеседников в полное смятение. Они отмахивались от великолепных проектов устройства человеческого общества, где все всем будет поровну, как от нечистой силы. Колхозное устройство просто не лезло им в голову. Особенно возмущался «папа»: так у меня два коня, которые слушаются только матюков, но работают потихоньку. И они мои. А заберут коней, на чем работать стану? Наконец, разговор пошел на тему, ради которой собственно и явилась депутация: скоро ли мы думаем забирать все свои воющие, громыхающие и истоптавшие всю округу игрушки: самолеты да танки и подаваться восвояси? Честно говоря, мне, как и всем воинам Советской Армии, нравилось харчиться за границей. Да и наше государственное руководство все норовило подсунуть правительствам стран, куда мы вошли, парочку-другую танковых или авиационных корпусов для прокорма и постоя в качестве платы за нашу освободительную миссию. Пару дивизий нашего корпуса, в конце концов, всучили Болгарии, где у власти оказался свой человек — Георгий Димитров, и поэтому такая постановка вопроса меня обидела. Я стал объяснять, что мы освободили их от немцев, и теперь должны осмотреться. Уйдем, когда получим приказ. Моравцы нажимали: а когда же будет приказ? Судя по их словам, получалось, что особенной разницы между нами и немцами они не делают, а перспектива коллективизации пугает их, пожалуй, не меньше, чем перспектива оказаться в немецком концлагере. Они маленькая страна, маленький народ, и привыкли жить по-своему. Когда же мы уйдем домой?
Впрочем, беседуя со мной, чехи проявляли известную осторожность. Они уже настолько прониклись ко мне доверием, что могли во всеуслышание сказать неуважительные слова о чешских коммунистах: «А что у нас за коммунисты, босота, типа Мартина, и несерьезные люди, которые не сумели выучиться в жизни ничему полезному. Разве пойдет ему на пользу целая „влада“, хозяйство, отнятое у немцев, которое ему вручили даром в Судетах?». Конечно же, о наших коммунистах, за спиной которых стояла многомиллионная, грозная армия, а под каждым лозунгом скрывались тысячи самолетов и танков, они такого сказать не могли. «Ваши коммунисты, это коммунисты хорошие — люди серьезные, и все же — когда вы от нас уедете?»
Следует сказать, что мы жили в Моравии, как коты. Смоляков завел сразу двух любовниц: одну из полка, а другую — землячку-белоруску из батальона, и даже являлся ночевать ко мне, поскольку бывали ночи, когда к нему заявлялись сразу две, по его собственным словам, «бляди», и занимали все имеющиеся в наличии кровати. Мы прекрасно питались и потихоньку прибарахлялись. В Чехословакии было меньше трофейного грабежа. Все-таки пострадавшая от немцев страна, потенциальная союзница. Такого беспощадного грабежа, как в Венгрии и Германии, здесь не было. В Чехословакии, в основном, грабили немцев, высылаемых из страны. А в Венгрии мне приходилось наблюдать в одном из имений, куда я с группой летчиков приехал смотреть водящихся на пруду черных лебедей, как группа наших солдат по приказу командира дивизии демонтировала роскошную ванную венгерского графа. Все выламывали с мясом, ломая добрую половину, для отправки на квартиру доблестного военного начальства в Союз. Солдаты комментировали: «Забираем у одних буржуев, чтобы отдать другим». Народ не обманешь. Помню, уже через несколько лет, на политзанятиях, солдатик на мой вопрос: «Что такое политика?», упорно твердил, весь взмокнув от напряжения: «Политика — это обман народа», и ничего не желал слушать о том, что наша советская политика совсем другая. Как я узнал позже, вскоре вывезли в Союз и черных лебедей, которыми мы любовались. Но вот довезли ли? Сомневаюсь. Не доехали или передохли уже на месте и великолепные венгерские лошади: скакуны и битюги, другой породистый скот, который в наших колхозах, даже если они доезжали до них, начинали кормить соломой с крыш. В основном пропали великолепные немецкие заводы, которые мы демонтировали, и ящики с оборудованием которых еще долгие годы гнили у железнодорожных путей по всей России. Я сам видел под Купавно, в конце сороковых, ящики с таким, уже сгнившим, немецким химическим заводом, четыре года валявшимся под откосом. Везли массу, и почти все пропало — не в коня корм. Вскоре превратились в металлолом все навезенные в страну трофейные машины. Угадали лишь те, кто грабил произведения искусства. Уже после войны, в Монино, моя дочь Жанна с подружками бегала заглядывать в просветы между шторами в комнатах генеральских квартир, любоваться на великолепные картины в золоченых рамах, которые были кусочком какого-то другого мира в разоренной и голодной стране. Удивительно, как могли эти маленькие страны на протяжении многих лет, находясь под безжалостным давлением двух диктатур, сохранить эффективное хозяйство и денежную систему.