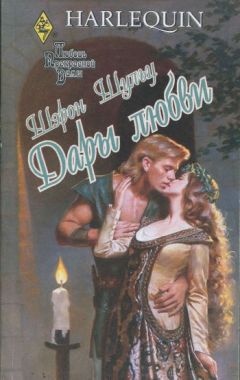Сергей улыбнулся. Первая улыбка за долгое время мытарств.
Место его пристанища, предоставленное неожиданными и неведомыми друзьями, было просторным и походило на мансарду; с покатого чердака сквозь крошечные оконца в железных рамах цедился неверный свет. Пахло сухим деревом, восковой мастикой, лаком и давней пылью. Кругом громоздилась мебель, ящики, матрасы — театральная декорация расплывчатой и постоянно менявшейся формы в пьесе, режиссером которой была сама жизнь. Лучи заходящего солнца слабо теплились в металлических частях мебели. Его косые отблески после каждого движения Сергея делали видимыми мириады пляшущих пылинок.
Он снова улыбнулся и растянулся на диване, обитом грубым репсом. Заложив руки за голову, устроился поудобней и закрыл глаза. Но через минуту приподнялся на локте, вскочил с места и, осторожно приблизившись к груде ящиков, начал что-то искать. Быстро возвратился назад, неся два джутовых мешка, расстелил их на диване и снова удовлетворенно растянулся.
Краюха хлеба, кусочек колбасы ч наполовину опорожненная бутылка с водой на ночном столике, застеленном газетой, говорили о том, что голод на сегодня усмирен. Все это раздобыла где-то миниатюрная женщина в светлой кофточке и с фирменной шапочкой на голове, придающей ей сходство с московскими официантками. Ёду она принесла в огромной коробке из-под шляпы. Разворачивая свертки, она что-то говорила, говорила и с улыбкой поглядывала на него. И он отвечал ей улыбкой.
Наконец они оба расхохотались, заразив своим весельем и грузчиков, доставивших Сергея сюда и молча, с любопытством наблюдавших за ним. Потом они ушли, пожав ему руку и пояснив мимикой и жестами: ты, друг, ни о чем не волнуйся, спокойно пережди здесь, а мы обо всем побеспокоимся… Сергей тоже, как мог, ответил: я — то не волнуюсь, верю вам и благодарю.
Никто из них не понимал слов, которые он произносил, и их речь была для него наполнена звучанием, а не смыслом. Но взгляд, жест, интонация — это не требовало перевода, потому что диктовалось добрым чувством. Это напоминало удивительную химическую реакцию, когда два вещества, соединенные волей случая, вдруг неожиданно образуют новое, гармоническое, жизнестойкое соединение.
Шум внизу, в магазине, постепенно утих, тишина стала прозрачной и чистой, как вода в пруду, когда взбаламученный за день ил постепенно оседает на дно. И тишина эта еще больше укрепила в нем чувство безопасности.
Сергей протянул руку, взял бутылку и отпил глоток воды: его все еще мучил кашель Поставил бутылку на место, повернулся на бок, положил голову на руки и вздохнул.
“Они, наверное, спрячут меня в надежном месте и раздобудут новую одежду. Бороду придется сбрить. Хорошо бы попасть в партизанский отряд…”
Глаза его зажглись гневом, кровь забурлила. Жажда мести пронизала его насквозь, стала как бы его неотделимой частью, мускулы напряглись. Он сжал зубы и стиснул кулаки.
“Бороться! Любой ценой бороться…”
Чуть передохнув, он уже рвался в бой, плечом к плечу с братьями по борьбе. В тот бой, который не оставляет места чувству безнадежности и одиночества.
Нет, он не желал больше прятаться, избегая опасности, страха и одиночества. Он был теперь не один и понимал, что, когда бойцы поднимаются в атаку и чувствуют локоть товарища рядом, они знают, где их подстерегает смерть и с какой стороны может нагрянуть беда. И тогда они не боятся ни того, ни другого.
Теперь, когда снова возвратилась уверенность, ему стало стыдно за минуты отчаяния и растерянности.
Он снова глотнул воды.
“Нарушил ли я обязанности советского офицера?”
Он надолго задумался, стараясь избавиться от этой настойчивой мысли, которая не давала ему покоя. Нет! Он действовал, как и подобает смелому человеку. Была, конечно, и слабость временами, и ошибки тоже были. Почему, к примеру, он не взял с собой хоть немного еды, когда покидал свой вагон? И еще — надо было забрать пистолет у того офицера, убитого в гараже…
В складе стало совсем темно. Мебель, ящики, поставленные один на другой, постепенно растворились в темноте. И только на столике едва заметно мерцала бутылка с водой.
Где-то в темноте послышался бой часов.
Сергей вздрогнул и насторожился. По звуку он определил, что это были те же часы, бой которых он слышал не раз, охваченный отчаянием, в той развалюхе на противоположном конце города. Сегодня их мелодичный звон казался дружеским и приветливым.
Пять!
Почему именно сейчас ему вспомнился тот полет над тайгой? Сергей вряд ли мог бы это объяснять.
Перед ним, казалось, проходили кадры незабываемого фильма: бескрайние, нетронутые леса проплывали под крылом, фантастическое нагромождение деревьев с высоты выглядело зеленым ковром, по которому бежала тень самолета. Стоял летний день, теплый и солнечный, — Дальний Восток щедр на такие дни. Воспоминания нахлынули на Сергея, перенесли в светлый мир, далекий от войны… Он тогда работал на строительстве, на севере. Катя и он поехали туда добровольцами. В них бурлила молодость, сила, энергия, жизнь виделась ярким, захватывающим приключением. Через речку к Колчедану должны были проложить нефтепровод, и строительство звенело от молодых голосов.
В тот день Василий Карпович пригласил его на небесную прогулку. “Чудесная штука”, — сказал он, поглаживая фюзеляж биплана. Богатырский был человечище, жадный к жизни, работающий как вол и не признающий никакого лекарства, кроме работы.
Когда они перелетали Падун, ошеломленные величием родной земли, Василий Карпович сказал ему:
— Наша страна словно эта река: сильная, необъятная, спокойная и непобедимая. Из миллионов капель, слитых в единый неудержимый поток, образуется она. Так и страна — из миллионов человеческих судеб, устремленных к единой цели.
И после короткой паузы снова проговорил своим хрипловатым голосом:
— Наша страна, Сергей Сергеевич, как набатный колокол, и голос ее слышен далеко в мире.
Он любил звучные сравнения и даже вспыхивал, когда говорил о России.
Сергей подумал: “Куда война забросила его теперь? Жив ли?” Последняя весточка от него пришла с Центрального фронта, где он летал на легком бомбардировщике.
Наконец он догадался, почему ему вспомнился Василий Карпович. Часы! Часы, громко отбивавшие вечернее время.
Закололо в груди, и он снова закашлялся.
“Ничего не скажешь, здорово мне перепало. Никакая лошадь не выдержала бы на моем месте. Две ночи под открытым небом, и еще держусь”.
Теперь, лежа в тихом уютном помещении, он вспоминал обо всем спокойно и отрешенно, как о ком-то другом, которого он хорошо знал.
“Самой кошмарной была первая ночь, когда я влез в машину, опасаясь, что меня заметят. А перед этим я раздел того беднягу железнодорожника возле станции. И малоутешительное утро. Часами дрожать на улицах, в отчаянии и страхе, не имея ничего другого в перспективе, как в случае чего стрелять в них и погибнуть самому”.
От такого воспоминания он даже вздрогнул.
В комнате было темно. Но Альбер Перришон не торопился включать свет: надо было опустить маскировочные шторы, а вставать ему не хотелось.
Страховая контора размещалась на втором этаже старого частного отеля. Комната, где был расположен кабинет Перришона, когда-то была спальней, и на стенах еще сохранились старые, выцветшие обои с цветами. Облупленные головки амуров, венчавшие карнизы, были подобны легкомысленным копиям строгих барельефов, украшавших фронтоны соборов. Выложенный черным мрамором и потрескавшимися желтыми плитами камин был завален старой обувью, а в зеркале, засиженном мухами, отражались полки с картотекой и две новенькие этажерки в углу.
Сидя за рабочим столом, Альбер Перришон крутил в руках деревянный нож для разрезания бумаг н посматривал на Андре Ведрина, стоявшего у окна.
— Немцы расклеили но городу объявления, обещая награду в пять миллионов тому, кто сообщит о русском, капитане Красной Армии. Это он организовывал покушения, которые вот уже три дня не дают нам покоя.
Пораженный Андре Ведрин посмотрел на Перришона так, словно на площади де Жод увидел вдруг динозавра, читающего бульварную газетку “Ле пти паризьен”. Но ничего не ответил. Как он просмотрел такое важное объявление? Перришон спокойно продолжал:
— Какой-то бродяга польстился на такие деньги и сообщил немцам о нем. Я был свидетелем. Он воспользовался телефоном “Кафе де Пари” и позвонил в гестапо. У меня было деловое свидание в этом кафе… Немцы устроили грандиозную облаву, но все зря. Он спасся. Как именно — понять не могу. Но он убежал, и нам необходимо помочь ему. Я уже дал задание всем нашим людям. Первый, кто увидит его, должен немедленно спрятать. Мы обязаны спасти его.
Андре спросил:
— Но как же с ним договориться, как, собственно, подступиться к нему, если он ни слова не понимает по-французски?