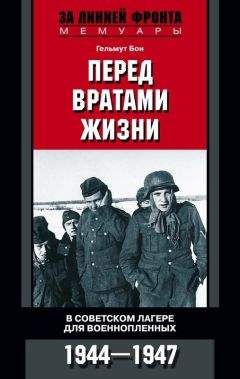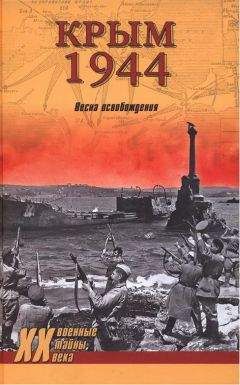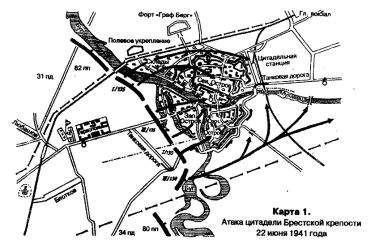— Почему ты воевать против Красная армия?
Этот вопрос мне задавали уже, наверное, раз пятьдесят. Обычно на допросах. Идиотский вопрос.
Но когда об этом меня спросил старший лейтенант, я испугался. «Действительно, почему?!» В конце концов я ответил:
— Каждый из нас, в одиночку, сражался совсем не против Красной армии. В одиночку мы часто сражались только против нашей собственной трусости. А в бойцов Красной армии мы стреляли потому, что в этот момент именно они и шли на наши пулеметы, и нужно было иметь немалое мужество, чтобы стрелять по ним.
Я действительно верил в то, что говорил.
Глубже всех свой «томагавк войны» зарыл Шитко. Шитко служит денщиком у старшего лейтенанта. С тех пор как его контузило на фронте, он заикается:
— В-в-в-война п-п-п-плохо!
Тем самым эта тема для него закрыта раз и навсегда, вместе с Гитлером и Сталиным в придачу.
Шитко не хочет больше носить погоны на своем кителе.
— Так же не полагается, Шитко! — говорим ему мы, немцы. — У старшего лейтенанта будут неприятности, если он позволит тебе ходить без погон!
Однажды Шитко стал причиной крупного скандала. Поступило сообщение о приезде в военный госпиталь какого-то генерала. У всех голова идет кругом, старый князь Потемкин явно не мог бы нарадоваться, глядя на всеобщую суматоху. Шитко сразу же взяли в оборот.
— Сегодня ты возьмешь с собой свою винтовку с примкнутым штыком, когда пойдешь с художником на кухню, чтобы забрать ведро супа! — наставлял его старший лейтенант. — Как предписано уставом! Художник идет впереди тебя на расстоянии пяти шагов, а не так, как обычно, когда вы идете рядом и вместе несете ведро!
— Так точно, товарищ старший лейтенант! — Шитко стал по-военному по стойке «смирно». На его плечах погоны, как и положено. Он даже украсил их желтыми полосками в соответствии со своим званием. Желтыми полосками из жести, которые он вырезал из консервных банок с американской тушенкой.
Первые пятьдесят метров по вспаханному полю все идет, как было приказано. Я с ведром шагаю впереди. Шитко с винтовкой наперевес — за мной. Когда мы идем через деревню, я слышу, как Шитко начинает петь. Не гимн Советского Союза или строевую песню, а какую-то песню о Ленинграде, где Шитко работал слесарем-сборщиком.
— Шитко, тебе же нельзя петь во время конвоирования военнопленного! — говорю я, не оборачиваясь.
Он и так все время что-то недовольно бурчал, а теперь вот начал громко петь.
— Шитко! — заклинаю его я.
Нам навстречу уже попадаются красноармейцы из военного госпиталя в своих широких больничных брюках. Ожидая генерала, многие из них прикрепили к фланелевым рубашкам ордена и медали, которые позвякивают при каждом шаге.
Все закончилось бы хорошо, если бы уже перед самым входом в кухню Шитко не захотелось забежать на минутку к своему другу, хлеборезу. Прислонив свою проклятую винтовку к стене, он оставил меня у двери кухни. Я успел еще крикнуть ему вдогонку:
— Шитко! — но его уже и след простыл.
Эта история закончилась тем, что об этом вопиющем нарушении дисциплины, когда военнопленный вместе с винтовкой с примкнутым штыком был оставлен без присмотра у дверей кухни, было доложено начальству. На самый верх. Шитко должны были отправить на фронт. Но для того чтобы сражаться на фронте, он был слишком туг на ухо. А старшему лейтенанту было строго указано на то, что он слишком хорошо обращается с военнопленными.
Но в остальном в моей жизни не происходит ничего необычного. Да, где-то там, далеко, продолжается война.
— Вы, конечно, ничего об этом не знаете! — рассказывают новые военнопленные, которые попали в плен к Иванам во время боев на Центральном фронте. — Гитлер применил новое оружие!
Конечно, мы знаем далеко не все. Хотя каждое утро Якобзон зачитывает нам новости. Он с гордым видом читает:
— Сегодня наши доблестные войска окружили столько-то немецких дивизий и уничтожили их.
Всякий раз Якобзон радуется, как ребенок. Для него дело выглядит следующим образом: Красная армия вскоре вступит на немецкую землю. А как только Красная армия окажется на немецкой земле, она станет точно такой же, как немецкая армия, которой он так восхищается.
— Наши… — гордо читает Якобзон и ожидает, что мы будем радоваться вместе с ним. — Наши войска сегодня вступили на немецкую землю и вторглись в Восточную Пруссию.
Когда он делает паузу, многие из пленных аплодируют ему своими исхудавшими ладонями. Но я пока еще не могу заставить себя делать это. Хотя, казалось, я должен был бы аплодировать вместе с другими, так как хотел попасть в антифашистскую школу в Москве, когда моя работа в военном госпитале закончится.
Но пока моей работе в военном госпитале не видно йонца.
Я постарался всемерно расширить поле своей деятельности.
Мое своего рода «фирменное блюдо» — березовые таблички со сверкающими инкрустированными золотыми буквами. Теперь в каждой палате висит такая красивая табличка с надписью «Не курить!». Раньше раненые товарищи любили побаловаться махоркой, лежа в постели, теперь же курение в палатах строго-настрого запрещено. Я прямо-таки горжусь своей работой. Эти таблички для меня изготавливают плотники. Натуральная береза, чисто обработанная рубанком, пять сантиметров шириной, сорок сантиметров длиной! Золотые буквы я вырезаю из консервных банок, в которых компания «Оскар Майер» поставляет в Россию американскую тушенку. У каждой буквы есть острые треугольные кончики, которые я отгибаю вниз. После того как я аккуратно загоняю эти кончики в дерево, таблички смотрятся очень солидно. Такие таблички вполне могли бы висеть в любом вагоне-ресторане компании «Митропа». На них могла бы красоваться надпись «Ивона» — игристое вино столетия» или что-то подобное.
Только Шитко не нравятся мои великолепные таблички.
— Почему запрещено курить?! Проклятый художник, ты думаешь только о дополнительной миске супа. Тебя не волнует, что из-за твоих проклятых табличек товарищам красноармейцам теперь запретили курить в палатах свои козьи ножки!
— Видишь ли, Шитко, такова классовая борьба. Те, кто вешает эти таблички в палатах, где лежат товарищи красноармейцы, обладают властью и распоряжаются раздачей супа. Мне очень жаль, что я своими табличками невольно обидел тебя, Шитко. Могу ли я как-то загладить свою вину перед тобой?
Оказывается, что могу. Я рисую портрет Шитко. В погонах и с орденом на груди. А вдоль лба и длинного острого носа, который может принадлежать как глупцу, так и мудрецу, я рисую светлую линию, словно след от солнечного луча. На моей картине Шитко выглядит как настоящий герой.
И в августе я продолжаю трудиться за своим рабочим столом на улице. Отсюда я могу наблюдать, как там внизу, в утятнике, они сбегаются в кучу, когда в обед подвозят бочку с супом, этой огуречной водой. Однажды я вижу, как перед военнопленными в утятнике выступает с речью тот самый Ларсен, эмигрант из Берлина. Но я не спускаюсь к ним. У меня дела.
Дело в том, что недавно сюда ко мне по тропинке поднимался сын начальника госпиталя. На вид ему лет восемнадцать. Он всегда ходит в штатском. Шитко говорит, что на самом деле он уже давно должен был бы находиться в рядах Красной армии.
Но он где-то учится. Или прогуливается в шелковой спортивной рубашке. С брюнеткой, которая носит челку.
Не мог бы я нарисовать портрет его невесты?
Я попытаюсь.
В качестве поощрения он дарит мне великолепный ядовито-зеленый химический карандаш. Наверняка он стянул его с письменного стола своего отца, всесильного начальника госпиталя.
Когда он приносит фотографию своей невесты, я озадаченно почесываю за ухом:
— Очень красивая! Очень красивая ваша невеста! Но если господин отец узнает об этой картине, будет ужасный скандал, а в дураках останусь я, военнопленный!
Дело в том, что на брюнетке с челкой и глубоко посаженными глазами нет абсолютно ничего. Словно изящная статуэтка, она стоит на коленях среди камышей. А разве это плохо?
Ну да, у них здесь принято вместе мыться в бане и петь. Или купаться голышом и сидеть на корточках в камышах. Но нарисовать обнаженную? Нет, это невозможно!
Даже после того, как они прогнали своих попов, Венера Милосская у них считается свинством.
После того как я уже измерил циркулем острые груди девушки, старший лейтенант забирает себе фотографию со словами на ломаном немецком:
— Живой девушка хорошо, голый девушка тогда неплохо. Фотография мертвый. На фотография голый девушка не есть хорошо.
В следующий раз сын начальника госпиталя выглядит уже совсем присмиревшим.
Тем не менее я оставляю себе его ядовито-зеленый химический карандаш.
В течение некоторого времени этот химический карандаш еще сослужит мне хорошую службу.