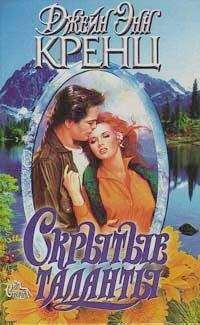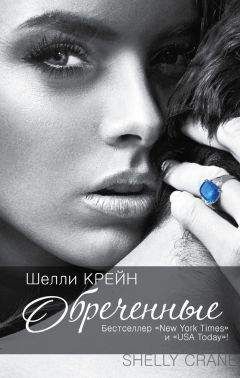Голый все время помнил о его присутствии и держал ухо востро. И мальчик чувствовал, что его нельзя вовсе не принимать в расчет.
Хозяйка поставила на стол деревянный круг, тарелку свежей брынзы, мисочку сметаны и кувшин с водой. Потом слила воду из чугуна, поднесла его к столу и вывалила на середину стола целую гору картошки.
Поднявшийся пар на мгновение скрыл ее от глаз сидящих, но вот он осел, и все отчетливо увидели картошку.
— Карто-о-ошка! — воскликнул Голый, всплеснув руками.
— Хлеба у нас нет, — сказала женщина.
— Картоха! — Голый лез носом в самый пар. — Картоха, настоящая картоха, товарищи!
— Картошка! — сказал мальчик.
— Последняя, — заметила женщина.
— Картоха! Так зовут ее в моих краях, — радовался Голый, держа руки над картофелем, словно обнимал его.
— Ешьте, пожалуйста, — сказала хозяйка.
— Все вам отдаю, хоть и самому нелегко приходится. Каждый день идут ваши, а ведь и для себя не хватает, — ворчал старик.
— Картоха, — ничего не слыша, бормотал Голый, — лучшая еда на свете!
— Ну уж и лучшая, — капризно заметил старик.
— Словно ее нарочно для голода да войны создали, — сказала женщина. — Спрячешь в землю, может и убережешь, да и есть можно без всякой приправы.
— Правильно, — ликовал Голый.
— Ешьте, товарищи, — еще раз пригласила женщина.
Голый взял картофелину — она хорошо сохранилась, хотя уже поспевала новая, — и начал ножом снимать сухую шелуху. А мальчик действовал пальцами, и оказалось, что они стали ужасно неловкими. Потребовалось все его терпение, чтоб довести дело до конца. А ведь предстояло очистить еще несколько, чтоб потом есть все сразу.
— Ешьте, сколько душе угодно, — сказал старик.
Слышать это было довольно приятно. Хотя они почти и не слышали — оглохли от желания насытиться. Глаза чуть не вылезали из орбит, шеи вытягивались, как у индюков; они знали, что вид у них нелепый до неприличия, но ничего не могли с собой поделать и продолжали с тем же жаром…
— Наголодались, бедняги, — сказала женщина.
— Угу, угу, — еле вымолвил мальчик.
— Ничего, вы, главное, ешьте. Ешьте, сколько душе угодно.
— Может, вам овцу заколоть, а? — предложил старик.
— Не нужно, — сказал Голый, предостерегающе подняв руку.
— Погодите! Остановитесь! — закричал старик. — Ведь помрете на месте! Не знаете разве? Один вот так наглотался хлеба — у немцев отбили транспорт с хлебом — и свалился мертвый.
— Картоха! — сказал Голый, набив полный рот, и сделал успокаивающий жест рукой.
За еду принялись и все остальные. Ели дети, ела и хозяйка, беря картофелины размеренными движениями рук.
— Садись и ты, Мара, — пригласила женщина девушку в красной кофте.
Девушка подсела к столу, взяла картофелину и стала над ней священнодействовать, по-прежнему не спуская удивленного взгляда с партизан, словно только что их увидела.
Старик быстро отложил вилку, которой брал картошку, встал из-за стола и, отойдя в сторонку, воззрился на Голого. Неожиданно он произнес почти сердито:
— Бедный мой сынок, голый и голодный!
Голый замигал, трезвея. Глотнул, потянулся к воде, напился, взял еще одну картофелину, поменьше, и стал неторопливо чистить, сосредоточенно рассматривая ее и словно забавляясь, — будто ему совсем не хотелось есть.
— Бедный мой сынок, голый и голодный! — повторил старик. — И ты говоришь, что вы сильнее немцев и всяких прочих войск!
Голый и вида не показал, что слышит старика, то есть что его хоть в какой-то мере задевают эти слова. Он считал ниже своего достоинства отвечать на подобный выпад.
— Не верю я, что вы сильнее, не верю. — Старик разволновался, подошел к очагу. — Не верю, и все тут!
— И еще как сильнее, — тихо, едва слышно сказал Голый.
Старик вернулся к столу, сел на прежнее место и как ни в чем не бывало принялся за картошку, словно никакого особого разговора и не было.
Мальчик вообще не слышал, о чем они говорили. А может быть, это просто казалось. Он только чаще поправлял зажатую в коленях винтовку. Ел он медленно. У него уже был горький опыт. Когда они ворвались в Прозор и обнаружили полные склады съестных припасов и даже теплые котлы с готовым обедом, он съел столько хлеба, гороха с солониной, а потом брынзы, ветчины, меда, что лег на землю брюхом к небу и стал ждать смерти. До ужина он не мог пошевелиться, хотя голод нисколько не утих, потому что перед тем целых пятнадцать дней они ничего не ели — изредка только по ложке муки, замоченной в воде, да траву с обочины тропы. Если б тогда отдали приказ двигаться и пришлось бы подняться, не быть бы ему в живых. И сейчас он был осторожен, ел не спеша, понемножку, хорошо разжевывал и мысленно провожал каждый кусок через пищевод в желудок. Но и сейчас он не мог утолить голода. Он знал, что, ешь он даже до вечера, все равно бы не наелся.
Старик испытующе глядел на Голого.
— Свобода! — начал было Голый, но поперхнулся сухой картошкой. Взяв кувшин, он промочил горло. — Свобода… не плохая штука, — заключил он. Задумчиво протянул руку за картофелиной побольше. Поднес ее к глазам, мучительно подыскивая убедительные слова.
— После победы народ должен взять власть в свои руки.
Старик помягчел.
— Эх, дорогой мой товарищ и друг…
Мальчик почувствовал неловкость. Ему показалось, что странности в поведении Голого объясняются болезнью. Было видно, что он с трудом сидит на скамейке. И мальчик взял слово.
— Вижу, вы сберегли кой-какую скотину? — обратился он к хозяйке.
— Да, в селе осталось несколько коровенок, старые — не пришлись по вкусу супостатам.
— А у моего дяди остался бык, — вставил один из парнишек.
— Бык? Ах да, быков они еще не едят, — сказал мальчик. — Здесь, на равнине, они еще до этого не дошли, но наверху, в горах, немцы жрали и падаль.
— Неужели правда? — посветлел старик.
— Да, правда.
Старик кашлянул, нахмурился, погладил ус, махнул рукой, но все же сказал:
— Кажется мне, что этим самым немцам война дорого встала. Как вы думаете, а?
— По всей видимости, так.
— Да и вообще лет сто уж война, по-моему, почти всем выходила боком, и прежде всего тому, кто ее начинал. Это и дает мне некоторую надежду на будущее.
— Что ж, может быть, и так, — сказал Голый.
— Будущее! А кто его дождется?
— Кто-нибудь дождется.
— Я охотно бы прокатился по этой долинке на автобусе, когда наступит мир. До чего ж ладно грузовики идут, любо-дорого поглядеть! Надоело пешком ходить.
— А чего ж, конечно, поедешь!
— Летать у меня нет желания. Но летать тоже неплохо, если дела небесные передадут людям вроде меня. Ах, нет у людей разума и никогда не будет. Попомни мои слова: нет и не будет!
— Ну и хорошо.
— Что — хорошо?
— Все будет хорошо, вот что я хочу сказать.
— Может, ты и прав.
Парнишка постарше не отходил от винтовки. Скажет два слова, и его задумчивый взгляд снова прирастает к занятному оружию.
— А у тебя патроны есть? — спросил он внезапно.
— Какой же прок от винтовки без патронов.
— А сколько их у тебя?
— Двадцать пять, а может, и больше.
— Двадцать пять! Вон они, — парнишка показал на патронташ, погладив рукой прекрасно сработанные патроны — желтые, с блестящими кончиками, все одинаковые, гладкие. Сколько их! Надо же, сколько их понаделали! Где-то их делают, где-то далеко, словно в другом мире.
— Слушай, выйди-ка на минутку, я тебе что скажу, — сказал старик Голому. — Зачем?
— Выйди! — Старик многозначительно закивал головой.
Голый нехотя поднял пулемет и вышел за стариком. Дети ринулись за ним.
— А вы, детвора, сидите в кухне! Марш в дом! — прикрикнул на них старик.
Ребята с недовольным видом вернулись — им как раз хотелось какой-то перемены.
Старик вплотную приблизился к Голому и сказал:
— Это мой племянник у очага сидит. Сын брата. Возьми его с собой. Он хороший человек. Говорю тебе — хороший, хоть и был у четников. Дал маху. Но сейчас тише овечки.
— Убивал?
— Не слыхать.
— Предавал?
— Не слыхать. — Старик торжественно поднял руку. — Брат его, кажется, у вас.
— Пусть идет, — сказал Голый, вернулся в дом и сел на прежнее место.
И старик сел на старое место, напротив Голого, с озабоченным и серьезным видом; ему хотелось сказать что-нибудь значительное, но, несмотря на все старания, он так ничего и не придумал.
— Пора идти, — сказал Голый. — И снова без штанов.
— Нет у нас, — встрепенулся старик. — Ничего нет. Хоть шаром покати… Все погибло.
Женщина вскочила и побежала в соседнюю комнату, в горницу; через некоторое время она вернулась с широкими полотняными турецкими шароварами.
— Вот, только это.
— Пойдет, — сказал Голый. Тут же, не снимая сапог, он натянул их.