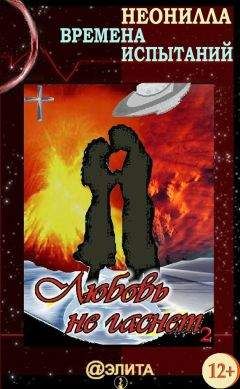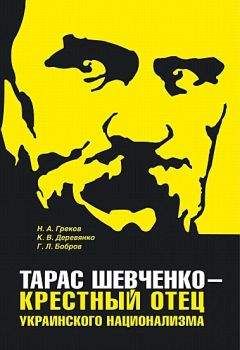Разучивая роль, Шура, как наставлял Дмитрий Фомич, вживалась в образ своей героини, для чего после чтения исторической литературы попыталась силой своего воображения вернуться на половину тысячелетия назад, к событиям Столетней войны и увидеть почти такую же юную, как сама, Жанну д'Арк, ее родителей и жениха, деревню Домреми, затерявшуюся в пыли веков где-то между Лотарингией и Шампанью. Родители Жанны, в представлении Шуры Курсевич, походили на ее отца и ее мать, а деревня Домреми — на Жодино, но с той разницей, что на местах бревенчатых изб стояли какие-то лачуги, увитые плющом и гроздьями винограда. Единственно, чего не могла представить Шура, так это жениха Орлеанской девы: никто из знакомых студентов педтехникума для этого не подходил.
В возбужденном сознании Шуры отчетливо звучало каждое слово исторического диалога:
— Ненавидите ли вы своих врагов? — спросил Жанну д'Арк один из руанских судей.
— Не знаю, — ответила Жанна, — но зато я твердо знаю, что мы выдворим из Франции всех до единого, кроме тех, что падут на нашу землю мертвыми.
Она брала крепости и города, отказывалась от почестей и боролась за свободу милой Франции:
Кто я? Простая дева; бедною пастушкой
Родилась я; и меч был чужд моей руке,
Привыкнувшей носить невинно-легкий посох…
Но вдруг, отъятая от пажитей домашних,
От груди милого отца, от милых сестр,
Я здесь должна… должна — не выбор сердца, голос
Небес меня влечет — на гибель вам, себе
Не в радость, призраком карающим бродить,
Носить повсюду смерть, потом… быть жертвой смерти…
Великий дар воображения — оживлять из прошлого события и образы. Закрыв глаза, Шура видела Жанну во главе отряда, снимавшую осаду с Орлеана, слышала звон мечей в битве при Потэ, и Жанна, окруженная сиянием Победы, скакала на коне в распахнутые врата Вечности. Скакала навстречу своей трагической судьбе.
Победа и Вечность — удел избранных. Вот Жанна держит древко знамени во время коронации дофина Карла в Реймсе, и тут воображение Шуры начинает бунтовать, призывая в союзники справедливость и здравый смысл. Разве дофин Карл — это не подлое ничтожество, скрывшееся от борьбы среди праздной роскоши своего дворца в Шеноне? Так можно ли было довериться этому ничтожеству и оказаться в «компьенской западне»?
Зов справедливости так же вечен в памяти человечества, как вечны в ней действительные исторические факты. Как вечно и неугасимо борение добра и зла.
А те допросы, сладкоречивые увещевания церковников и пытки в подземельях инквизиторов? Неправое судилище в Руане и казнь — кого они, ничтожества, казнили?! Кого решились после казни проклинать? Да где же справедливость? Где?!
«Так было», — утверждали исторические факты.
Воображение Шуры представляло центральную площадь в Руане, близ старого рынка, откуда с пламенем костра ушла в бессмертие Орлеанская дева. И Шура, глотая слезы, ощущала ее боль и видела в судьбе Жанны воплощение великого подвига, а подвиг всегда остается бессмертным…
Но Жанну сожгли, а те триста церковников, которые ее мучили, погубили и даже в пламени сгоревшую продолжали проклинать — история определила им бесславие и позор, но это случилось в будущем, а жили они в довольстве и после руанской казни. Какое право имели они, палачи, гибелью невинных утверждать свою несуществующую правоту и наслаждаться благами жизни?
Пока еще неясное, интуитивное, в Шуре возникло представление о ненависти:
Теснится жалость в душу мне; рука, готовясь
Сразить живущее создание, трепещет,
Как будто храм божественный ниспровергая;
Один уж блеск изъятого меча мне страшен…
Но только повелит мой долг — готова сила;
И неизбежный меч, как некий дух живой,
Владычествует сам трепещущей рукой.
Где появилась на свет Жанна д'Арк? В деревне Домреми, недалеко от Саргемина. Через полтысячи лет в этом лотарингском городке родился Марсель Сози, который будет говорить ей, подпольщице Наташе, такие же взволнованные слова, которые она, студентка Борисовского педтехникума Шура Курсевич, читала в романтической трагедии Шиллера. А потом в стенах вражеской темницы, где она ожидала свою смерть, Марсель подарит ей старинное фамильное кольцо, признается в любви и назовет священным именем Жанны д'Арк. Ибо многое, что пережила девушка из Домреми, довелось испытать и ей, подпольщице из Смолевичей. А выжила она лишь по стечению невероятных случайностей и потому, что «на войне, как на войне».
Если бы каждый знал свою судьбу… Во всяком случае, когда после представления «Орлеанской девы» в зале гремели аплодисменты и Шура Курсевич, счастливо краснея, раскланивалась перед зрителями, даже отдаленно представить, что будет в ее судьбе через несколько лет, она не могла.
Отыскав укромное место за сценой, Шура долго сидела одна.
— Выходишь из роли? — участливо спросил Дмитрий Фомич и кивнул на стоящего рядом жгучего брюнета:
— Знакомься, мой друг и однокашник по институту Петр Игнатович Борисенко. Работает в Минске и…
— Мне понравилось ваше исполнение… — просто сказал брюнет. Немного помолчав, он добавил: — Ваша сопереживательная искренность… И главное — вы…
Для начала знакомства это было дерзостью. Уже познавший характер Шуры, Дмитрий Фомич с интересом ожидал, что будет дальше. Но та никакого значения словам Борисенко поначалу не придала, потому что в этот момент случилось что-то очень для нее важное, а что именно, она не могла понять и сама. Просто Шура подумала, что жених Жанны д'Арк, если он, конечно, достоин ее, мог бы походить вот на этого красавца брюнета. Высокий, стройный, две темные ночи в глазах, а брови… Такие, кажется, зовут соколиными. Но главное, что сразу отметила про себя Шура, красота этого брюнета была мужественной, лицо смотрелось волевым, и во всем облике Борисенко она почувствовала обаяние, силу решительного и умного человека.
Выдержав паузу и ничего не понимая, Дмитрий Фомич растерянно предложил:
— А в общем, Шура, давайте вместе называть моего друга просто Петром. Вы согласны?
— Согласна, — и тут же усмехнулась: — А может, назовем вашего друга просто Петенькой? Или Петрушей? Давайте решим, как будет лучше: Петенька или Петруша?
Густо покраснев, Борисенко закинул голову и прищурил большие черные глаза: лицо его, перестав быть задумчивым, сделалось надменным, в углах четко очерченного рта чуть заметно дрогнула обида. Сделав над собой усилие, он признался:
— Я был нескромен. Извините.
«Сумел побороть себя, — обрадовалась Шура. — Какой же он молодец! И сила характера у него добрая, справедливая…»
На лице Борисенко заиграла обаятельная улыбка, и он предложил:
— Давайте познакомимся? Меня зовут Петром… Она протянула руку:
— Шура.
Втроем они бродили по вечернему Борисову, и Дмитрий Фомич по-немецки говорил, а потом, переводя, по-русски декламировал стихи своего любимого поэта:
«Айн фихтенбаум штейт айнзам им норден ауф калер гё…»
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей все, что в пустыне далекой —
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.
Вечер был теплый, бархатный.
— Что может быть прекрасней Гейне и Лермонтова? — восхищался Дмитрий Фомич. — И здесь, обратите внимание, тоже чудесен авторский оригинал: «Ихь вайс нихт, вас золль эс бедойтен, дац ихь зо трауриг бин. Айн мэрхен аус альтен цайтен дас коммт нихт аус дер зинн…» «Я не знаю, что случилось, отчего я так грустен. Сказка старых времен не идет из головы…»
— В гитлеровской Германии твой любимый Гейне запрещен, его книги сгорели на кострах, — с непонятным раздражением сказал Петр.
— Но разве возможно сжечь для человечества великого Гейне? — возразил Дмитрий Фомич. — Я люблю немецкую поэзию за силу разума и мудрость чувств. Немецкая поэзия велика, как велик создавший ее народ. Как бесценны для истории деяния этого народа.
— Бесценны? — в голосе Петра послышался сарказм. — А Гитлер и породивший его фашизм? За них еще человечеству придется очень дорого заплатить.
— Но Германия дала миру Маркса и Гёте, Энгельса, Гейне…
— Фридриха и Вильгельма, Бисмарка и Гитлера, его препохабие мещанствующего обывателя, — резко продолжал Петр.
Дмитрий Фомич стоял на своем:
— Но ведь и ты любишь немецкую поэзию! И вы, Шура, тоже? А Гитлер, фашизм — это болезнь и позор нации. Они уйдут, оставив великому немецкому народу раскаяние и стыд воспоминаний.
— А сколько миллионов погибших оставит после себя фашизм? Как велики будут жертвы за стыд воспоминаний великого народа? Помнишь, у Канта? «Самое большое чудо — это звезда над нами и нравственный закон внутри нас». Каков же нравственный закон у фашистов и есть ли он вообще? И можно ли безучастно наблюдать за тем, что они творят?