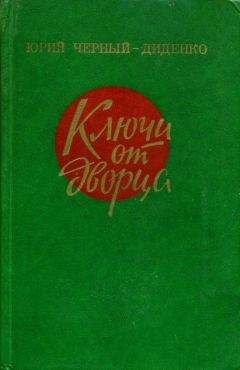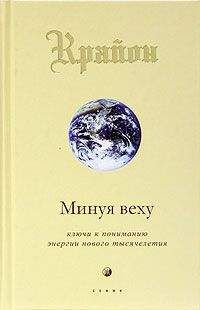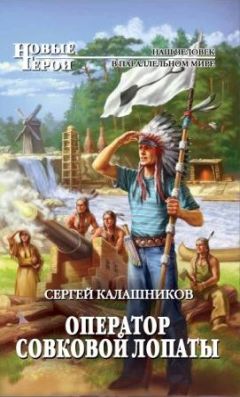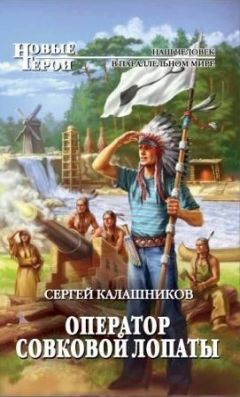Похоронили убитых. Чеусова, Фомина и Салтиева, красноармейца из первого взвода, погибшего в рукопашной схватке, когда немцы на правом фланге все же проникли в окопы роты. Хоронили на том же старом деревенском погосте. Проводить товарищей в последний путь смогли немногие — после понесенных потерь каждый человек на передовой был на счету.
Осташко и Запольский подняли пистолеты, прогремели выстрелы прощального салюта.
Вернулись в роту, когда уже стемнело. Алексей сел писать политдонесение. Борисов, пристроившись на нарах, пил чай. С какой-то яростью, будто продолжая переживать ход боя, откусывал сахар, так же яростно прихлебывал из жестяной кружки кипяток и нет-нет да и подсказывал, кого из красноармейцев следует назвать как отличившегося.
— Гайнурина не забудь, он своим ручным прижал лягушатников так, что они головы не подняли. Две огневых позиции сменил, шустрый.
Борисов прислушался к голосам у входа в землянку, позвал:
— Уремин, это ты скрипишь? Зайди. Вот тебе и еще один герой, выручил меня… Немец уже было замахнулся гранатой, а старик упредил его, снял своей трехлинейкой.
В землянку вошел Уремин, остановился в своей мокрой, побуревшей шинели и грязных сапогах у входа.
— Звали, товарищ капитан?
— Спасибо тебе, папаша, за сегодняшнее… Хочешь согреться? Садись почаюй, — с чапаевским радушием предложил Борисов.
…Донесение получалось длинным, Алексею хотелось написать и о тех, с кем он сам стоял рядом в этом бою, и о тех, о ком рассказали Борисов, Вдовин, командиры взводов. Мешал сосредоточиться и быть кратким голос вошедшего во вкус командирского чаепития Уремина:
— А вот вы мне скажите, товарищ капитан, отчего так получается? Только люди попалят из пушек и разного прочего орудия — и сразу польет с неба… Я это еще и в гражданскую примечал…
— И правильно льет… По календарю… Октябрь месяц…
— Октябрь-то октябрем, а все-таки до сего дня сушь держалась, а постреляли — и на́ тебе, занепогодило…
— По здешним местам ничего удивительного… А под Сталинградом, наверное, и сейчас жарит вовсю, хоть и бои посильней нашего…
— А по-моему, не в том дело…
— В чем же тогда?
— Природа гневается… Не любит она сотрясения, пороха…
— А ты его любишь? Что-то не нравится мне, Уремин, твой разговор. Сражался ты геройски, а рассуждаешь по-блаженному… Люди палят! Выходит, одно и то же — что немцы, что мы?..
— Это вы напрасно, товарищ капитан… Вот мне и в транспортной роте тоже так второпях ответили, а я до истины докопаться хочу.
— Ладно, не обижайся, у нас не транспортная, здесь докопаешься побыстрей…
Когда Уремин ушел, Борисов завалился спать, а Осташко предстояла еще самая тяжкая работа: написать письма семьям погибших.
На прошлой неделе он видел в штабе полка отпечатанные официальные извещения. На них оставалось заполнить только фамилию, имя, отчество и вписать, кем именно является погибший для адресата — Ваш сын… Ваш брат… Вага муж… — да еще указать место захоронения. Все остальное сказано, и сказано значительными, возвышенными, но по-типографски безличными, одинаковыми словами. Штабной писарь предложил бланки и Осташко, но Алексей тогда торопливо и суеверно от них отмахнулся. А вот сейчас потянуло написать именно эти, единственно верные, точно взвешенные на весах великой правды слова: «Погиб смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость Родины…» Так он напишет и в Наманган семье Салтиева, и матери Чеусова, и жене Фомина… И добавит, что эта потеря тяжела и для них, сослуживцев, товарищей, что будут мстить за пролитую кровь…
На нарах заворочался Борисов, и Алексею послышалось, что он вздохнул.
— Ты что не спишь?
— А ты?
— Видишь же, занят.
— Вижу и знаю чем… Поэтому и скажу тебе откровенно — ложился бы тоже, а с этим успеется…
— Ты что в самом деле? Да это же наш последний святой долг перед ними… «Успеется»! — вспыльчиво повторил Алексей. — От кого угодно, а от тебя, командира роты, никак не ждал.
Борисов долго молчал, было в этом молчании нечто похожее на оскорбленность. И вдруг он заговорил уже иным, жестким, даже явно неприязненным голосом.
— Может, я так и сказал потому, что командую ротой уже не первый месяц и видел побольше твоего… В деревнях и так воем воют от похоронок, а ты торопишься. Если б чем хорошим обрадовать, тогда и впрямь торопись, спеши, хоть и телеграмму посылай, а то, что сейчас делаешь, может и подождать… Я бы, откровенно говоря, завел другой порядок: пропал без вести — и точка. А вот, когда выгоним немцев, когда добьем их, тогда само собой прояснится, кто остался жив, кто нет. Зато вот она, победа! А что из того, если ты, допустим, напишешь моим в тот же Барнаул, что, мол, так и так, остался ваш Ромка под тремя березками у высотки сто десять…
— Да перестань ты об этом, Роман, на ночь глядя, — примирительно произнес Алексей. — Пусть не доведется никому и ничего подобного в твой Барнаул посылать… ни сейчас, ни после победы.
— А это уж не нам с тобой знать, товарищ политрук, — коротко заключил разговор Борисов и натянул на голову шинель.
…Хотя бы у него оказалось время мысленно разобраться во всем, что предшествовало этому черному дню, проследить, доискаться, узнать, где и когда именно он ошибся. Пусть не сможет сообщить об этом товарищам, повиниться перед ними в своем невольном промахе, но все-таки легче было бы помирать, если этот промах не такой уж тяжелый, допущен им не по легкомыслию, не по мальчишеской беспечности. И перед Варварой он тогда бы не испытывал терзающих укоров совести. Она ведь сама знала, на какую опасность идет, уговаривать ее не пришлось, и не он, не он по какой-либо своей неосторожности или прямо ротозейству привел в конце концов эту опасность к порогу ее хаты.
Избитый сразу же при аресте, Лембик, кинутый в подвальную черноту камеры, с самоосуждением думал о происшедшем сегодня…
А ведь год, ровно год, начиная с того дня, как по осенней степи отошла в сторону Дебальцево прикрывавшая отступление своей части цепь красноармейцев и Нагоровка оказалась под немцами, ровно год он был для них недосягаемым, неведомым, хотя и насолил вдоволь. Понятно, не сам, не в одиночку, помогали верные люди. Та стена на машзаводе, что на прошлогодние ноябрьские праздники припечатала к земле едва ли не половину комендантской команды вместе с ее духовым оркестром, стала только зачином, первым грозным предвестием. Прибавлялись и прибавлялись на кладбище кресты с торчащими над ними буро-зелеными каскадами… Прибавились и после того, как на перегоне между Динасовым заводом и Матвеевским разъездом подорвали эшелон, направлявшийся в Миллерово. И после того, как от взрывчатки, подброшенной в уголь, которым топили печь, взлетела караулка на химзаводе. И после пожара на товарной рампе, где, перебазируясь, выгружался один из армейских складов. Но что известно немцам о причастности его, Лембика, ко всему тому, что их здесь так допекало? Что им известно о нем самом? За этот год он так свыкся с личиной того человека, под именем которого жил, — дальнего родственника Варвары, — что не узнавал в зеркале самого себя. А что уж говорить о других!.. Даже Игнат, старик Осташко, кому полагалось бы за версту по походке и всем повадкам опознать друга, даже он попал впросак.
Когда этой весной Лембик пришел в Моспино и увидел Осташко, вскапывающего грядку, то не мог удержаться от шутливой проделки. Прикинулся случайным прохожим, попросил воды и, пригубив вынесенную кружку, несколько секунд лукаво смотрел поверх нее на отчужденно хмурившегося под этим взглядом машиниста. Потом неторопливо протянул ему кружку.
— Спасибо, Игнат.
Ну и рассердился же тот поначалу! Надо бы обрадоваться, а он рассердился.
— Нашел время спектакли устраивать, комедию ломать! Неужели только этому и научился во Дворце?
— Кое-чему и другому научен, Игнат, издавна научен. Поэтому и пришел. Старая память и тебя не должна подвести.
Но, прежде чем повести разговор о том, ради чего он пришел в Моспино и разыскал приятеля, Лембик еще раз внимательно осмотрелся в этом новом местожительстве Игната Кузьмича, осмотрелся и остался доволен. Крытый толем старый приземистый домик стоял в ряду других, таких же ничем не примечательных, еще дореволюционной застройки шахтерских жилищ. Во дворе погреб, сараюшки, позади огород, обмежеванный низенькой каменной кладкой и колючим шиповником, за ними степь, глухие балки. Лучшей явочной квартиры на запас и не найти. Можно подойти к ней и улицей и задворками.
Расспросил он и о проживающих вместе с Осташко родичах. Игнат Кузьмич, понимая, что все эти расспросы с серьезной подоплекой, поведал все, как оно было. Сваха сейчас не здесь, ушла к другой, старшей дочери. Тут остался он с Танюшкой и внучкой. Не скрыл Осташко от друга и того, что произошло ночью на Первомайской, когда постучались итальянцы. Лембик насторожился.