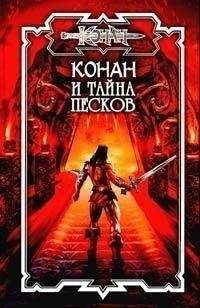...Шли черные дни. В крови, дыму и пожарах рождался 1942 год. И вот однажды, глухой февральской ночью, кто-то осторожно постучал в дверь...
Это был он. В густой русой бороде искрилась седина, а когда-то веселые голубые глаза выцвели, налились свинцом. Дымом и потом разило от рваной серой шинели, от больших грязных рук. И все же это был он, ее сын, ее Павлик.
Алена стояла перед сыном на коленях, целовала его руки, и горячие беззвучные слезы смывали снег с разбитых сыновних ботинок.
Потом она резала хлеб, из потайного места доставала сало и, глотая слезы, со страхом смотрела, как не по-человечески жадно ел тот, кого она уже и ждать перестала...
Сын уснул прямо за столом, положив голову на руки. У матери не было сил, чтобы перенести его на кровать, и она, погасив коптилку, всю ночь стерегла его сон, чутко прислушиваясь к каждому шороху за стенами хаты.
Утром они разговорились.
— Под Ржевом окружили... К своим не пробился... Вот и решил возвратиться домой...
Слова сына падали глухо и тяжко, как мешки с песком. Глаза его избегали смотреть в лицо матери. Вдруг, будто вспомнив что-то важное, он торопливо спросил:
— Немцы в селе есть?
— Есть, — испуганно глянув на окна, ответила мать. — Гарнизон их тут, и тебе лучше спрятаться. Немцы знают, что отец был коммунистом, хата наша под надзором...
Павел промолчал. Стараясь заглянуть ему в глаза, мать продолжала:
— Вся молодежь в лес ушла. И ты отдохни денек, да и туда же. Таня вот тоже собирается, вместе и идите. Убьют здесь. Очень уж зверствуют фашисты.
— Гляди ты! — мрачно усмехнулся Павел, посмотрев на малорослую сестру. — И тебе захотелось пороха понюхать? — Помолчав, глубоко вздохнул: — Устал я, мать... Очень устал! Потом, может... Авось и не убьют?.. Ведь и немцы же не всех убивают?
Мать с испугом посмотрела на сына, а тот, все так же избегая ее глаз, надел шинель, достал из-под подкладки какую-то бумагу и вышел на улицу.
Возвратился домой поздно вечером хмурый, ко как будто немного успокоенный. Разрешили жить дома, — на ходу ответил на немой вопрос матери и, торопливо раздевшись, лег спать.
До самой весны сын спокойно жил дома, лишь изредка исчезая куда-то на один-два дня. Иногда к нему приходили какие-то люди, и тогда, запершись в боковушке, они пили до утра и о чем-то тихо разговаривали.
В конце мая сын снова ушел и уже больше не возвращался в родное село.
«Убили, — проплакав несколько недель кряду, решила Алена. — Замучили. Поймали и замучили в страшном подвале в Заборье. Убили сына... Наверное, погиб и муж. Так зачем же жить мне, больной, никому не нужной?» — с грустью повторяла Алена, лежа на жесткой постели, и — ждала смерти, которая избавит ее и от страданий и от дум...
— Товарищ капитан, помогите! Хоть тресни — негде взять! А как разбогатею — верну. Честное комсомольское!..
Кремнев опустил газету и взглянул на Скакуна. Микола плавал в каком-то зыбком сером тумане. Он что-то говорил, о чем-то просил, но Кремневу никак не удавалось уловить смысл его слов. Слова партизана, будто сухие осенние листья, пролетали мимо, оставляя после себя какой-то тревожный, непонятный шорох.
«Чего он хочет? О чем просит? — думал Василь, сквозь туман всматриваясь в лицо Скакуна. — И что это я сам хотел ему сегодня сказать? Ага, про Валю Ольховскую!.. Нет, пока не надо говорить. Так что же тогда сказать?»
Кремнев посмотрел на газету, которую держал в руках, на портрет старшины с орденом Ленина на груди, и вдруг вспомнил, что ему надо сказать. И он каким-то чужим, хриплым голосом заговорил:
— Убили старшину Филиповича. Вот, в газете написано. Со связкой гранат лег под немецкий танк...
Серый туман сгустился, и Скакун исчез. Но Кремнев чувствовал, что он рядом, и продолжал:
— Отцом он мне был. Я же детдомовец. Он помогал мне, когда я учился в университете... Потом воевали вместе, в разведку ходили... Он и сюда хотел идти вместе со мной...
Кремнев замолчал. Срочно надо пойти в Лозовое! Увидеть Алену, Таню.
— Ты о чем-то просил, Микола? — осторожно свернув газету, спросил Кремнев.
— Ладно, в другой раз, — вздохнул Скакун. — Извините, я не знал...
— О чем ты просил, Микола? — нетерпеливо переспросил капитан. — Говори, я спешу.
— Тол хотел занять у вас. Килограммов двадцать.
— А почему — занять? И так дадим. Приходи сюда завтра в пятом часу и заберешь тол. А газету — я возьму ее. Можно?
— Берите, товарищ капитан! — обрадовался Скакун. — А тол мы вернем. Как раздобудем, сразу же вернем.
Кремнев отмахнулся и крикнул в кусты:
— Бондаренко!
— Я, товарищ капитан! — как из-под земли вырос разведчик.
— Возвращайся в лагерь и скажи Шаповалову или лейтенанту Галькевичу, что я задержусь до утра. Встречайте меня на том же месте, где стоит сейчас наша лодка.
— Есть, товарищ капитан! — козырнул Бондаренко, но с места не двинулся.
— Ну, а чего стоишь? — удивился Кремнев.
— А может, вместе задержимся, товарищ капитан? — несмело проговорил Бондаренко.
— Нельзя вместе, — с благодарностью взглянув на разведчика, ответил Кремнев. — В лагере поднимут тревогу.
— Это, верно, поднимут, — вздохнув, согласился Бондаренко и, еще раз ковырнув, исчез в лесу.
— Может, мне с вами по дороге? — взглянув в глава капитану, спросил Скакун.
— Я иду в Лозовое. Мне надо навестить семью Сымона Филиповича.
— Филипович — из Лозового?! — удивился Скакун.
-— А ты что... знал его? — насторожился Кремнев.
— Да нет… — Скакун замялся, потом осторожно спросил: — Скажите, а у Филиповича... дети были?
Кремнев внимательно посмотрел на Скакуна. Сердце у него застучало сильнее и тревожней.
— Ну, были, — ответил, все еще напряженно вглядываясь в лицо партизана. — А кого ты из них знаешь?
— Понимаете, в моей группе... Возможно, это и не его дочь, но...
— Ее зовут Таней?
— Да, Таней, — растерялся Микола.
— А Павла... Павла Филиповича ты не знаешь?
— Нет, Павла не знаю, — ответил Скакун. — А он что...
— Так, один знакомый, — поторопился ответить Кремнев, поняв, что Скакун и в самом деле не знает сына Филиповича. — Сымона Филиповича дальний родственник. А Таня — дочка...
— Мы с ней собираемся на задание. Прямо отсюда и пойдем... — Скакун хотел добавить: — к Лозовскому мосту, — но промолчал.
— Значит, Таня здесь?! — понизив голос до шепота, испуганно спросил Кремнев.
Скакун утвердительно кивнул головой. Кремнев оглянулся, потом наклонился к партизану и горячо зашептал:
— Ты... молчи. Ничего не говори Тане. Слышишь, Микола? Ни слова! Я сам... когда-нибудь...
Кремнев повесил на шею автомат и быстро направился в глубь леса. Он шел напрямик, не выбирая дороги, и остановился только тогда, когда увидел перед собой широкий плес реки.
Оглянулся. Отсюда до Лозового — а это он знал хорошо — не больше двух километров. Перейти за рекой кусты орешника и сразу же начнутся Лозовские заливные луга. Они подступают к самым огородам, к вишневым садам, что венком обвивают почти каждую деревенскую усадьбу.
Незавидная внешне хата Филиповича тоже прикрыта вишнями и сиренью. Стоит она чуть поодаль от улицы, и если идти со стороны луга, по старому, давно высохшему руслу, то к ней можно незаметно подойти даже днем. Но... что ему, Василю Кремневу, теперь делать в Лозовом? Зачем он туда спешит? Какую радость несет он доброй, сердечной женщине, которая в свое время заменила ему мать?
Василь сел на гнилую колоду, вытер рукавом мокрый лоб. Стремительно текла река, бурлила, будто хотела смыть и забрать с собой яркие звезды, что весело купались в ее глубине. Звезды дрожали, качались, на мгновение исчезали и снова появлялись, начинали шаловливо подмигивать вдогонку потоку воды, не обращая внимания на потоки новые, что неслись на них из темноты, из-за густых лозовых кустов.
За год до войны Кремнев ловил на этом месте лещей. До восхода солнца рядом с ним обычно сидел Сымон Филипович. Но как только краешек солнца показывался из-за низких кустов орешника, Сымон торопливо сматывал удочку и озабоченно говорил:
— Ну, хлопче, мне пора в контору. А ты лови. Сейчас и Таня придет к тебе на подмогу.
И пятнадцатилетняя девочка, словно только и ждавшая этих слов, неслышно выходила из орешника с белым узелком в руках, в котором несла Василю завтрак, садилась на берегу и терпеливо ждала, пока подъедет отец и отдаст ей весло.
Маленькая, худенькая Таня умела ловить рыбу не хуже взрослых мужчин. Самодельный поплавок Симоновой удочки она клала на воду неслышно, а сама мгновенно скрывалась в высокой траве. И если б не розовые ленты, которыми она украшала свои косы, ее и не разглядеть бы в густой сочной зелени.
Таня могла часами сидеть молча, глядя на свой поплавок, и подавала голос только в самую критическую минуту, когда крупный лещ, подсеченный ее слабыми, но ловкими руками, вдруг начинал упираться, явно не желая подчиняться юной рыбачке. Тогда Таня осторожно высовывала из травы голову и тихо шептала: