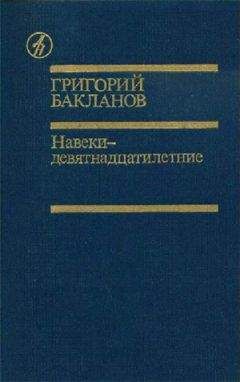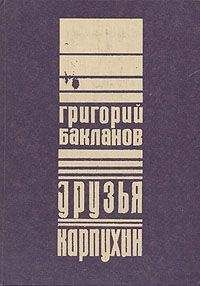— Что делать будем? — спросил Бабин, обведя всех тяжелым взглядом и остановившись на Брыле.
Сосед толкнул его. Вздрогнув, Брыль поднял мутные, налитые кровью глаза, потряс головой.
С этой ночи командование на плацдарме принял на себя Бабин. Еще в первый день убило Финкина. Вместе с начальником штаба его задавило на НП взрывом бомбы. На той стороне в хуторе у Финкина жена. Когда командира другого полка, раненного автоматной очередью в живот, переправили с последней лодкой, она просила, чтоб ее пустили сюда с того берега. Ее не пустили.
Несколько мин разрывается внизу одна за другой: ви-и-у… бах! Ви-и-и-у… — еще воет над головой, а внизу уже рвется: трах! трах! трах!..
— Это еще у него мортир нету, — говорит кто-то, пригнувшись: осколки долетают сюда, — а то б он нам давно навел концы.
Один еще теплый осколок я поднял. Он был синеватый, острый, с зазубренными, рваными краями. Я глянул на него, глянул на полную спину Риты, сидевшей рядом, и внутренне содрогнулся.
— Вот так и там было. — Бабин кивнул на север. — Прижали к Днестру и — артподготовка! Артподготовки здесь мы не выдержим.
Мы молчим.
— Выход один: вырваться из-под огня! Как только он начнет артподготовку — рвануться вперед!
— А пушки?
Это спросил начальник артиллерии полка, высокий, с бескровным лицом и забинтованной головой.
— Пушки бросим?
И тут в нас прорывается ожесточение этих дней.
— У него танки, а мы с чем? С этим на танки лезть? — Маленький, ощеренный лейтенант трясет в воздухе автоматом.
Кто-то хохотнул зло:
— Два полка было!..
— У меня в роте двадцать шесть человек!
Рядом со мной пехотный старший лейтенант с остановившимися глазами, что-то шепча, вынимает из карманов бумаги, рвет и закапывает в песок. Слепым от ожесточения, нам нужен сейчас виновник. Старший лейтенант вскакивает, выхватив пистолет, кидает его под ноги в песок.
— Не поводу людей на смерть! Умирать, так здесь?
И вдруг:
— Молча-ать!..
В нависшей тишине Бабин, поднявшись, идет к нему. Бледный, с черными страшными глазами. Сапог наступает на пистолет, вдавливает его в песок. Тихо. Слышно только дыхание Бабина.
— Иди! Туда иди!
Повернув, он толкает старшего лейтенанта в спину. — Плыви на ту сторону! Один! Спасайся!..
Опять внизу разрывается снаряд, в самой гуще, среди повозок. Пронзительное предсмертное лошадиное ржание. Из черного дыма вырвалась пара коней, волоча разбитую повозку, устремилась в Днестр. Еще несколько лошадей, обезумев, кинулись за ними. Повозочные задерживают остальных, хлещут по глазам. Последним подбежал к воде рыженький тонконогий жеребенок. Волна окатила его бабки, он отпрянул назад на берег и оттуда заржал. Мать ответила ему из Днестра, но другая лошадь продолжала плыть, увлекая ее за собой.
Лошади плыли тесно, волна окатывала их мокрые спины, течение сносило их вниз вместе с повозками. И все дальше и дальше уплывало ржание, а жеребенок метался по берегу. Наверху начал работать немецкий пулемет. Всплески появились на воде. Слева — направо. Справа — налево. Вначале далеко впереди, но постепенно приближаясь. Одна лошадь ушла под воду, другая… Широкая рыжая мокрая спина несколько раз показалась из воды на середине, потом волны сомкнулись над ней. Пулемет наверху еще некоторое время сеял по воде всплески. Наконец и он смолк. Только жеребенок бегал по берегу, пугаясь волн, и ржал жалобно. По-прежнему блестел на солнце Днестр, словно ничего не случилось, а место внизу, где разорвался снаряд, уже было занято другими стеснившимися повозками.
— Я не умею плавать, товарищ капитан… — сказал старший лейтенант странно прозвучавшим, потерянным голосом. У него дрожали губы.
Я вдруг увидел, что у него молодое лицо, светлые, налитые тоской глаза. Бабин отошел, тяжело сел на место. А старший лейтенант все стоял рядом со своим затоптанным в песок пистолетом, не решаясь поднять его, ни на кого не глядя, и все старались не глядеть на него. Что-то незримо отделило его от нас.
— Снять с него погоны, — приказал Бабин хрипло.
С песка поднялся Брыль. Подойдя к старшему лейтенанту — был он на полголовы ниже его, — жмурясь брезгливо и жалостливо, дернул раз, другой, оставив на плечах клочья порванной гимнастерки. И оба раза старший лейтенант качнулся. Мертвенно-бледный, он стоял как неживой, и казалось, сейчас упадет на песок.
Брыль сложил погоны звездочками внутрь, словно складывал вещи покойника. Поднял пистолет, обдув от песка, оглянулся, как бы не зная, куда деть.
— Пусть идет, — сказал Бабин, все так же не глядя. — Пусть один воюет.
И мы все видели, как старший лейтенант ушел. На минуту дым разрыва закрыл его; но тут же он снова показался. Он шел у воды по мокрому песку среди обломков и разбитых машин куда-то на левый фланг.
Бабин пальцами помял горло. Заговорил не сразу. И голос был хриплый:
— Как только начнется артподготовка, командирам рот, командирам взводов поднять бойцов! Коммунисты — вперед! Вперед, не останавливаясь! Не лежать под огнем! Когда сзади смерть, люди на пулеметы полезут.
Сузившиеся глаза его горят холодно и яростно. И я чувствую, как его возбуждение передается всем. Я начинаю дрожать. Это уже не от малярии.
— Смешаться с немцами! Гнать не отрываясь! Взять высоты! И ни черта нам танки не сделают. Не могут они давить своих!
Он повернулся к начальнику артиллерии:
— Орудия выкатить! По пять пехотинцев на орудие хватит?
— Хватит!
— Командиры рот, дать по пять человек на орудие! Выкатить на руках, огнем поддерживать пехоту! И — вперед! Вперед! Другого спасения нет.
Мы уже вскочили на ноги. Командир пешей разведки сунул финку за голенище брезентового сапога, в лице его отчетливо проступило жесткое, решительное выражение.
— Я к ребятам пошел!..
— Примешь его роту! — Бабин кивнул на то место, где стоял старший лейтенант. Кричит поверх голов: — На левом фланге Брыль. Справа — Караев. В центре поведу я.
Нас охватывает нетерпение. Не спавшие по нескольку ночей, измученные, ожесточившиеся, прижатые к Днестру, мы ждали последнего боя с мрачной решимостью. Пути назад не было. И надежды тоже не было. Сейчас нам начинает казаться, что это возможно: прорваться сквозь огонь. Сколько осталось до артподготовки? Никто не знает. Может быть, она начнется сейчас. Торопясь, мы расходимся. В последний момент Бабин задерживает меня:
— Останься!
Фроликов на песке вскрывает банку мясных консервов. Слышно, как дышит Маклецов. Жар сжигает его. Он все время пьет из фляжки и тут же опять облизывает сухим языком вспухшие, лоснящиеся губы — они у него какие-то багровые. Мне кажется, это от жары и солнца у него быстрей идет заражение. Глаза от температуры маслянистые, в них неспокойный горячечный блеск.
— Поведешь его роту, — говорит Бабин мне.
Маклецов пугается:
— Комбат! Я могу еще!..
И, пересилив себя, сел, опираясь руками. Белый, даже глаза посветлели от боли.
— Да лежи ты! — не выдерживаю я.
Он ложится без сил. Дышит часто, на висках выступил пот. Мы стараемся не глядеть на него.
Близко разрывается снаряд. Фырча, проносятся осколки. Стон. Придерживая туго набитую санитарную сумку, Рита бежит туда, мелькая пыльными голенищами сапог. Не добежав, останавливается: пехотинцы уже волокут убитого вниз, спиной по песку. Если так продлится, он выбьет нас по одному.
— Посади меня, — попросил Маклецов.
Я сажаю его спиной к откосу. Он смотрит на Днестр, смотрит на тот и близкий и далекий берег, где ему уже никогда не быть.
— Не верил я, что меня убьют, — говорит он.
— Брось, Афанасий, — говорит Бабин. — Что ты, первый раз, что ли? Кто раньше, кто позже — это мы вот после боя поглядим, кому какой черед.
И я тоже говорю что-то в этом роде, стараясь не встречаться глазами.
Вернулась Рита. Фроликов ставит раскрытую банку консервов. В коричневой жиже крошки желтого жира и мясо крупными волокнами.
— Есть будешь? — спрашивает Бабин.
Я не хочу есть. Во время приступа малярии меня от одного вида мяса тошнит. Рита тоже не хочет есть. Бабин ест один. Достает мясо пальцами и жует без хлеба, прислушиваясь к выстрелам наверху. Виски то западают глубоко, то надуваются. А Рита смотрит на него. Как смотрит! Кто она ему? Жена? Мать? Вот такого, худого, желтого, вымученного лихорадкой, она любит его еще больше. Я не могу видеть, как она смотрит на него.
Отворачиваюсь и смотрю на Днестр. К берегу прибило труп немца. Ноги раскинуты на песке подошвами в нашу сторону, а сам в воде до пояса. Накатывается волна, подпирает его под затылок, под спину, и немец как будто силится сесть. Потом волна отходит, он падает навзничь, раскинув руки.
Я не могу приказать Рите, потому что у меня нет власти над ней, я говорю Бабину: