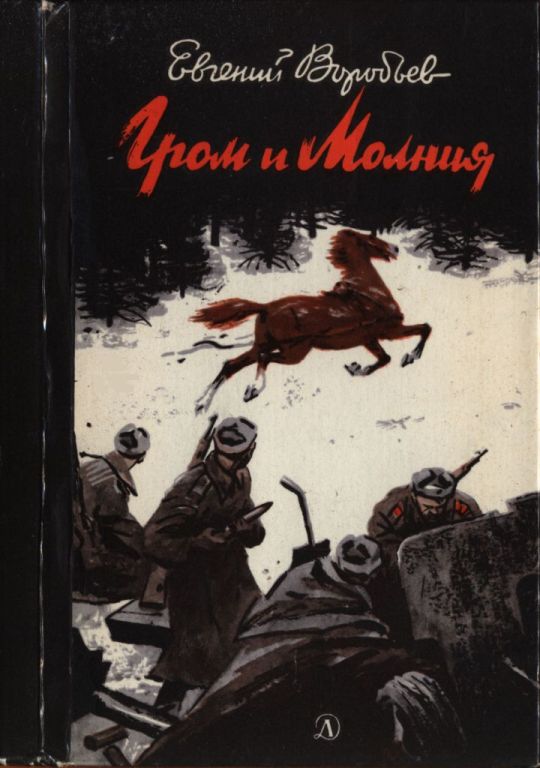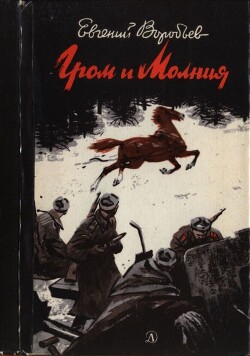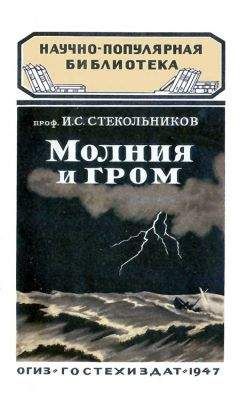же?
— Когда остерег меня и разминировал ворота. На волоске парень висел. Мина-то с двумя сюрпризами — это вам не фунт изюму. За такие дела медалью жалуют.
— А если его вольнонаемным определить? — подумал вслух Зиганшин.
Кузовкин надел исцарапанную, с вмятиной каску и озабоченно пожал плечами: он и слыхом про таких не слыхал. Оказывается, водятся такие в армии — в хлебопекарне, например, в военторге, наборщики в дивизионной газете, подсобный персонал в госпитале.
— Спрошу в штабе полка, — обещал Зиганшин и стал внимательнее приглядываться к новичку.
Парнишка явно не робкого десятка. И откуда взялась такая спокойная и деловитая расторопность в бою? Он усерднее всех строчил из автомата, никто в отделении не расходовал больше патронов, чем он. На тыльной стороне указательного пальца у него образовалась черная мозоль, а плечо саднило. Кузовкин прибинтовал марлевые подушечки от индивидуального пакета — плечико-то у парнишки худенькое, кожа да кости, вся ключица на виду. Авось перевязочный материал убережет от боли.
За Хайлигенбайлем сплошной стеной стояли на железнодорожной ветке, один в затылок другому, груженые товарные составы. Под вагонами залегли, хоронясь за скатами, немецкие пулеметчики, а из-за этой стены, высовывая дула между вагонами, стреляли «фердинанды».
Но и такой забор, в километр длиной, не остановил полк. Антось в том бою нашел себе новое занятие — вставлял запалы в гранаты и сам швырял их за вагоны так прилежно, что едва не вывихнул себе плечо.
Следующий привал устроили за железной дорогой, в господском дворе. Догорал дом какого-то гроссбауэра; солдаты грелись возле огня, сушили одежду. В костре потрескивали половицы, наличники, ступеньки лестницы, которые не успели сгореть в доме.
Сварили котел с картошкой. У каждого в «сидоре» нашлось кое-что для общей трапезы.
— А ты чего загораешь там, во втором эшелоне? — пригласил Антося Таманцев; несмотря на несколько ранений, ему удалось сохранить румянец на толстых щеках, словно он недавно из санатория. — Мест в нашей кают-компании хватит. А банкет на паях. Что найдешь в сумке у себя, то и доставай.
Когда-то Таманцев воевал в бригаде морской пехоты под Москвой, а после госпиталя отстал от своих и уже несколько лет не расставался с «царицей полей».
— Мне доставать нечего, — потупился Антось.
— Не обсевок же ты, однако, — подтолкнул его Мамай, — не пришей — не пристегни. Найдется для тебя и провизия, и глоток для сугрева.
Кузовкин и сам позаботился бы о новеньком, не позволил бы ему воевать впроголодь, но ему было приятно внимание товарищей.
«Укоренился парень у нас».
Антось нерешительно придвинулся к костру. Таманцев уже снял котел с огня.
— Соли только не припасли. Ни у кого, славяне, не найдется? Вот на мель сели!
Антось безмолвно полез в трофейный ранец из телячьей кожи, вывернутой рыжей шерстью наружу, и достал серую тряпицу с такой же серой, крупной солью.
— Если фашистской солью не побрезгуете. Мы брюкву варили, мерзлую картошку варили. В земле зимовала, несобранная.
— А жаловался — нет ничего съедобного! — шумно обрадовался Мамай. — Первейший продукт!
— У нас на Смоленщине говорят, — Кузовкин подмигнул Антосю, — без соли стол кривой.
Закипел медный чайник, закопченный до черноты, и Антось тоже прихлебывал задымленный чай, обжигая губы кружкой. Кто-то выложил для чаепития трофейные галеты, а предприимчивый и удачливый в поисках Мамай — банку искусственного меда, или, по-немецки выразиться, «кунст-хониг».
Как ни жался Антось к огню, мартовский ветерок забирался за воротник, за пазуху плохо греющей телогрейки, студил ноги — скорей бы высохли портянки и прохудившиеся сапоги. Мамай удивил всех, протянув Антосю свою флягу, и тот сделал несколько нежадных глотков.
Давно не было Антосю так покойно. Он сидел, исполненный душевного доверия к этим людям, они стали ему близки после всего, что сегодня пережили вместе. Его не дадут в обиду, он и заснуть может бестревожно.
И представилось ему, что сейчас душное лето, он приехал в деревню на каникулы к дяде с тетей, а там вдруг взялся пожар. Поздние сумерки. Отчетливо видны головешки, головни, горящие пучки соломы, щепки. Они летят в сонме огненных искр, их несет поджаренным ветром. Мужики карабкались на крышу, тащили туда мокрые рядна, половики, поливали их водой. Плача, понукаемый теткой, он бегал вокруг избы с иконой в руках. Выносить вещи из дому или таскать ведра из колодца? А тут в деревню возвратилось стадо. Корова вбежала в горящий хлев, прежде чем успела заметить тетка. Корову вывели уже с паленой шерстью. Все громче трещали горящие стропила, бревна, карнизы, со звоном лопались и плавились стекла. Дядя, чем-то неуловимо похожий на старшего сержанта, не уходил с крыши, отбрасывал горящие головешки, затаптывал, заливал водой солому, едва она начинала тлеть. Вот когда маленький Антось понял, что значит железная или черепичная крыша. С того самого июньского дня «красный петух» долго летал над крышами деревень, над Россией, а теперь перелетел в Германию. Тут не видать крыш под соломой или очеретом, а пожар полыхает вполнеба…
Замполит Зиганшин сдержал слово и доложил майору Хлудову о бездомном смоленском пареньке, которого разведчики хотят оставить у себя.
— Человека можно узнать по-настоящему только после того, как съешь с ним пуд соли, — наставительно сказал Хлудов. — Понятно, товарищ капитан?
Тем временем Антось успел стать бывалым разведчиком. Он первым в отделении изучил новые немецкие мины, наполненные жидкой взрывчаткой, — на вид совсем бутылки с кефиром. Он первый освоил трофейный фаустпатрон, держа его под мышкой, как это делают немецкие фаустники, — подсмотрел во время их дуэли с нашим танком. А во время штурма форта «Луиза» Антось пробрался из каземата через запасный лаз в склад боеприпасов, уже подготовленный к взрыву, чтобы перерезать бикфордов шнур.
Первую попытку протиснуться в лаз сделал тогда Таманцев. Но куда ему, такому упитанному, широкому в кости!
Вторым, предварительно хлебнув из фляги, в каземате появился Мамай. Он подошел к лазу, примерился плечами и тут же подался назад, сославшись на неподходящие габариты. Он изобразил на лице сожаление, но Кузовкин сразу понял, что Мамай испугался. Не мало бедовых поступков числилось за выпивохой Мамаем, хоть и вид у него такой, будто он ищет вчерашний день, а глаза вечно сонные. Как же это под самый конец войны он пришел в робость?
— Придется взять опасность в свои руки, — сказал Антось озабоченному дяде Ване.
Тщедушному Антосю лаз показался просторным; он залез туда, даже не сняв с пояса кинжал и гранату.
А на рассвете Кузовкин первым увидел перерезанный бикфордов шнур, который тянулся к складу боеприпасов.
В тот же день Кузовкин поделился с замполитом Зиганшиным своими невеселыми наблюдениями над Мамаем.