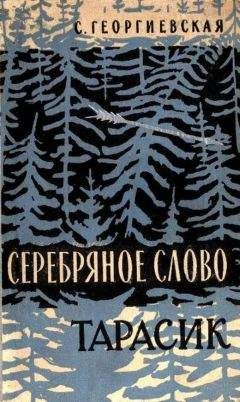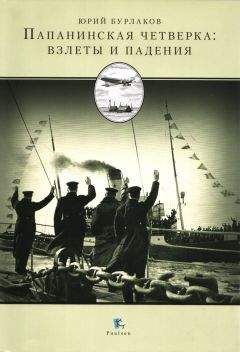Впрочем, он не стал бы огорчаться и в случае смерти жены или дочери, живших в городе на служебной квартире. Он похоронил бы любого близкого ему человека, руководствуясь правилами похорон, какие он бы для себя составил. И главное для него было бы — не отступить от этих правил. Франц Поппер приобрел жену только потому, что так было положено, и дополнительно выяснил, что жена, это человек, с которым надо жить до конца дней.
Он не удивился бы и собственной смерти, потому что был человеком поверхностным, не допускающим сантиментов.
Прямо с площади, не говоря ни слова, он направился в сторону мужского лагеря, примыкающего одним боком к ограждению «Птичьего Гнезда».
Он должен был самолично удостовериться в том, что в этой зоне все в порядке. Что он хотел там увидеть, никто не знал. Может быть, трупы или следы крови.
…После автоматной очереди люди стали расходиться. Они знали, что теперь нормального общения не будет. Автомат напомнил о себе. Теперь здесь лишь колыхались провода, горя подобно лампочкам в точках, где были накручены колючие шипы.
В сумерках что-то белело впереди, близорукий полковник Поппер не сразу понял, что это человеческое тело.
Пересекая территорию, следуя по центральной аллее лагеря между бараками, стоявшими слева и справа гуськом, он пытался изменить положение головы, чтобы получше разглядеть белое пятно на земле. Злость вскипала в его груди, клокотала, искала выхода. Он бежал уже почти, вытягивая при каждом рывке вперед ногу, следовавшие за ним офицеры чувствовали неловкость: шагом они не успевали, а если бы побежали, легко могли обогнать начальника лагеря, что вызвало бы его подозрения.
Они приближались к ограждению быстрым сбивчивым аллюром. Подходя, Эрих различил тело. Он сбоку взглянул на полковника, тот всматривался в темноту, сгустившуюся в эти пять минут. Казалось, что лагерь обступил черный высокий лес. Небо лишь вдалеке отблескивало, как черный жемчуг.
— А?.. Почему?
Полковник остановился с ходу, едва не сделав выпад вперед, застыл, показывая на тело, отворачиваясь от него, ища глазами Эриха.
— Что это?
Какая-то девушка лежала на земле у самого подножия высокого деревянного столба. Рука ее, просунутая между проволокой, расцарапанная до крови, все еще тянулась к угасшему солнцу.
Неожиданно он услышал шорох.
Он резко обернулся, испугавшись темноты, вернее, вспомнив, что он боится темноты с детства, боится поворачиваться спиной к открытому пространству.
Девушка была жива. Она немощно поднималась с земли, вставала на колени, пошатываясь, упиралась руками в землю, карабкалась по столбу, чтобы встать на ноги. Встав на ноги, она шмыгнула носом и опустила лицо.
«Опытная, — подумал Поппер, — Знает, что смотреть на господина — все равно что подписать себе смертный приговор».
Девушка вытерла мокрое липкое лицо рукавом робы.
Теперь Поппер и вовсе не знал, что ему делать. Он посмотрел на часы.
— Режим! — крикнул он и со всего размаху залепил ей оплеуху, — В карцер.
Эрих узнал ее. Это была та самая девчонка, которую он присмотрел себе, выпасывал ее уже несколько месяцев, попутно занимаясь другими.
Он кашлянул и произнес в жидковолосый затылок полковника:
— Все обошлось. Своего рода эксперимент — что могут делать половые гормоны с молодыми особями. Я беру девчонку на себя.
Полковник развернулся, вздохнул облегченно и пошел обратно, всем своим видом протестуя против того, чтобы его догоняли.
— Идите, господа, — сказал Эрих остальным, — Я сам отведу ее.
Удаляясь от ограждения внутрь территории, ведя перед собой понурую девчонку, он чувствовал, как из темноты смотрят на него два глаза, прожигая его спину и затылок.
Командировка в Антверпен
(Семидесятые годы)
О, как я люблю голоса твои, осень,
И ветер, и желтые листья кругом.
Г.Аполлинер
Хозяева — супруги Смейтс, расположились в кресле возле камина. Она, немолодая полнеющая дама, с лицом европейки, несколько впалыми губами и острым, несмотря на широкие скулы, подбородком, румяная, довольная жизнью, заняла само кресло, а супруг, настоящий хозяин, работящий и жилистый, как многие худые люди, присел на широкий подлокотник, спиной к огню.
Виктория, так звали хозяйку, была живой и непосредственной, ее волосы пушились над головой и она постоянно приглаживала их рукой. На пальцах, кое-где у ногтей, еще не отмылась масляная краска. Она красиво поворачивала голову, словно волосы ее оглаживал кто-то другой, шея ее напрягалась. Она часто оборачивалась на мужа, сидевшего позади, на ручке кресла, поднимала к нему лицо, а потом прижималась затылком. Терлась о его плечо. Сидевшему напротив мужчине, усердно поющему четвертую или пятую песню, было странно видеть, что и жителям капиталистической страны ничто человеческое не чуждо.
Советскому журналисту Станиславу Азарову было несколько неловко петь в таком большом холле, на таком расстоянии от двух внимательных слушателей. Не потому, что он никогда не пел в большой аудитории, просто привык он, да и его гитара, к кухонькам, к тесным дачным комнаткам переделкинских домишек, затерявшихся среди высоких дач классиков советской литературы, к тесным компаниям, когда до зари — беседы о новых стихах Вознесенского и Ахмадулиной, о премьере в «Современнике», о политике, о войне и женщинах, сигареты, винцо… и песенки, песенки по кругу. И в одних домах песенки Визбора, а в других песенки Галича, а в третьих домах песенки Высоцкого, а в четвертых и пятых — Никитина, Кима, Матвеевой.
— Ты играешь? — спрашивали незнакомца и, если тот кивал, просили, спой Булата!
За окнами стояли старые московские кварталы, близко-близко подходила стена какой-нибудь коммунальной трущобы, или сосны застилали все небо где-то далеко вверху, а тут дым, шум, приглушенные беседы, и молодость, молодость…
Он и в Антверпен взял гитару. Пограничники чуть было не завернули его: гитара-то старинная, да и не положено в командировку — с гитарой. Но он их переспорил. А документы на «подружку» он всегда носил с собой, как и удостоверение «Прессы», где красивым почерком было выведено: «Станислав Азаров, спец. корр. газеты „Красная звезда“».
Зачем Ильину, главному редактору, потребовалось в своей газете помещать раздел «Культура и искусство» — было загадкой для всех. Зачем он послал Стаса из осенней теплой Москвы в промозглый бельгийский город-порт, было загадкой даже для него самого.
Дело в том, что пять месяцев назад ему позвонил из Бельгии его старый приятель Филипп Дескитере, адвокат. Звонок был неожиданным и встревожил Ильина не на шутку. Каждый звонок оттуда он воспринимал, как ребус: «Что бы это значило?» Он постоянно ждал провокаций.
Но Филипп ничего провокационного не произносил.
— Когда приедешь в гости? — Спрашивал он и смеялся.
— Не могу, Филипп, родной, строю счастливое будущее, — кряхтел Ильин, соображая, что подумают чекисты, слушающие телефон, после этого панибратского «когда приедешь в гости?» и добавил, — Пропадут они тут без меня.
— Ну, вот. А я тебе хотеть познакомит с нашей звездой! — говорил Филипп и снова смеялся.
— Я на противоправные контакты не хожу, милый, у меня жена. И что характерно, я давно забросил это дело! А потом: лучше уж вы к нам, я тебя со своей «Звездой» познакомлю, со всей редколлегией, у меня тут такие звездочки, будь здоров.
— Спасибо, на здорофье не жалуюсь, — подхватил Филипп, похохатывая, Та ньет, ты не то подумал. Звезда — не шоу, а фламандской живописи, наша гордост, живой гений! — восклицал Дескитере и опять заливался коротким полагающимся смехом.
Ильина бросало в холодный пот, при мысли, что телефонная станция может отнести расходы за переговоры с Бельгией на счет редакции. Но он старался держать себя в руках.
— Я не верю в гениев в женском обличье, Филенька. Хотя, может быть, у вас другой уровень цивилизации, когда и даму пропускают на вершину искусства. Так ты говоришь, она талантлива? И, очевидно, красива?
— М-м, ей сорок семь лет. Она отчень привлекательная, у нее есть замечательный муж, прелестный дом. Четверо детей.
— Сколько?!.
Ильин почесал за ухом, повернувшись к зеркалу. Ему нельзя было покидать страну, слишком устойчивая тишина на площади Ногина и в Кремле, слишком затянувшаяся беспокойная тишина. Генсек отчалил открывать Америку, стоял вопрос о том, чтобы записать и его, Ильина, в третий эшелон сопровождения, но пока все молчали.
Да и сердце пошаливало последнее время. Словом, какая там Бельгия с ее живописью. Но Филипп его зацепил за живое. Ильин не мог не понимать, что теперь тональность общения с Западом станет совершенно иной, в моду входит «Культурный обмен». Может быть, это шанс угодить и попасть в обойму.