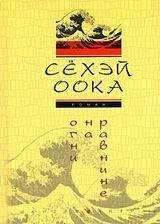Я неутомимо шагал вперед, лишь изредка останавливаясь, чтобы сплюнуть подступавшую к горлу мокроту. Я думал о смертоносных туберкулезных микробактериях, поразивших мой организм в Японии, после того как я страшно обгорел на тропическом солнце. И мысли эти доставляли мне мучительное наслаждение.
Я дошел до лесной опушки и в раздумье остановился у развилки. Прямо узкой лентой тянулась тропинка, скользившая по холмам в соседнюю долину, где располагался госпиталь. Налево ответвлялась дорожка, которая змеилась у подножия пологого отрога, исчезала в бурной речке, появлялась на другом берегу и в конце концов тоже выводила к госпиталю. По холмам я мог бы добраться до нужного места намного быстрее, но за последние двадцать четыре часа мне довелось проделать этот путь трижды. Томимый жаждой разнообразия, я под влиянием минуты избрал иной маршрут и отправился окольной дорогой.
В лесу стоял полумрак. Стежку осеняли огромные деревья, напоминавшие дубы. У корней исполинов буйно разрослись кустарники и диковинные ползучие растения. Они простирали друг к другу ветки, сплетали побеги-щупальца. Землю устилал плотный ковер из мха и прелых листьев – здесь, в тропиках, они опадают независимо от времени года. Тропинка, как резиновая, мягко пружинила у меня под ногами. Шорох сухой листвы походил на чьи-то вздохи. Неожиданно я вспомнил, как скитался по родным просторам Мусасино. Понуро опустив голову, я поплелся дальше.
Внезапно меня пронзила странная мысль. Я вдруг осознал, что в первый раз в жизни бреду по этой тропе и никогда более моя нога не ступит на нее. Я остановился как вкопанный и медленно огляделся по сторонам. Все замерло, воцарилась мертвая тишина. Вокруг высились огромные темные деревья с необъятными прямыми стволами, широко раскинутыми толстыми ветвями и разлапистыми листьями. Исполины и правда напоминали дубы, те, что в изобилии растут в Японии. Я не знал, как они называются. Летели годы, десятилетие сменялось десятилетием, а деревья все тянулись и тянулись к солнцу. Я появился под их кронами на миг и скоро вовсе исчезну с лица земли, а после моей смерти исполины как стояли, так и будут стоять еще не одну сотню лет…
Вообще-то ничего странного в моих размышлениях, на первый взгляд, не было. Я действительно впервые пробирался по таинственному лесу в глуши Филиппин – это была простая констатация факта. Уверенность в том, что едва ли мне когда-нибудь доведется сюда вернуться, тоже не содержала в себе ничего удивительного. Меня мучило другое. Мне никак не удавалось постичь глубинную суть противоречия: я прекрасно осознавал, что иду по лесной тропе в первый раз в жизни, и почему-то именно это осознание давало мне уверенность в том, что в будущем я никогда уже не окажусь в этом месте.
С тех пор как покинул Японию, я неоднократно попадал во власть абсурдных мыслей и эмоций. Однажды в июне, когда наше транспортное судно бороздило воды Тихого океана, я стоял на палубе и всматривался в морскую даль. В какой-то миг я, как это часто бывает в наших снах, увидел себя со стороны. Я превратился в героя хорошо поставленной сцены.
Куда ни погляди, везде сверкал безбрежный темно-синий океан, линия горизонта вырисовывалась идеальной дугой, под которой водная поверхность будто вздувалась изнутри. Мы же, находясь в центре, словно проваливались в своеобразную впадину. Неподалеку над водой повисло облако с ровным нижним краем, оно напоминало рисовый колобок из тех, что подают у нас в синтоистских святилищах. Корабль скользил по волнам, а облако, как привязанное, дрейфовало рядом с нами. Не меняя формы, оно медленно вращалось, словно раскрытый веер. Волны равномерно бились в борта судна, монотонно гудели дизельные двигатели – ничто не тревожило мысли и чувства. Однако внезапно я всем своим существом ощутил дыхание чего-то странного, таинственного, неведомого. Меня захлестнуло лихорадочное возбуждение, сопряженное с мучительно сладкой болью. Быть может, именно в то мгновение во мне возникло неосознанное предчувствие грядущего поражения и близкой смерти. В другое время я бы спокойно стоял на палубе, любуясь необычным облаком и бескрайними просторами, и представлял, как через несколько недель стану красноречиво описывать свои впечатления друзьям, которым не удалось увидеть волны Тихого океана. Откуда же взялось это стеснение в груди, эта ноющая боль? Уж не моя ли прозорливость породила болезненное смятение? Интуитивно я уже знал, что мне не суждено вернуться домой.
Кроме того, разве не предвидение гибели настолько обострило мое восприятие, что я смог уловить тайное предначертание и понять, что никогда больше не бродить мне по тропинкам загадочного филиппинского леса?
На родине, оказавшись в какой-нибудь глухомани, в непроходимых дебрях, мы никогда не испытываем изматывающего давления Странного и Неведомого, потому что в глубине души твердо верим: для нас всегда будет существовать возможность вернуться в данную точку пространства. А наше восприятие жизни? Не зиждется ли оно на изначально неверном представлении о том, что мы всегда, если захотим, сможем повторить то, что делаем в настоящий момент?
Я не испытывал ни малейшей грусти при мысли о своей неотвратимо приближавшейся смерти. Быть может, именно это предвидение усилило во мне способность наслаждаться природой, природой тропических Филиппин. Это произошло совсем недавно. Во мне словно что-то раскрылось, и я стал жадно вбирать в себя любое новое впечатление. Шагая по изумрудной лужайке перед манильским дворцом, я чувствовал, как из недр земли поднимается какая-то вибрирующая сила и вливается в меня через подошвы. Меня ослепляли огненно-красные соцветия бугенвиллеи, омытой внезапно налетевшим дождем. Алое, золотое, пунцовое небо на восходе и закате, лиловые вулканы, светло-розовые коралловые рифы в белой кипени волн, темно-зеленые леса на океанском побережье – все это наполняло мое сердце несказанной радостью, близкой к экстазу. О, я был благодарен судьбе! Перед смертью она даровала мне возможность увидеть и постичь красоту, безмерность и безграничность жизни. Ведь до сих а пор мое существование было не таким ярким, насыщенным, как мне бы того хотелось. Незадолго до своей кончины я обрел наконец-то радость и блаженство, ниспосланное мне судьбой. Да, судьбой! Или… Я бы сказал – Богом, если бы намеренно не избегал этого слова.
Мои мысли и чувства долго находились в смятении. Мне казалось, что зыбкое равновесие между мной, моей внутренней сущностью, и внешним миром нарушено. И вот все стало бесповоротно меняться. Процесс трансформации начался в те дни, когда меня отправили за океан воевать и убивать, а я внезапно осознал, что мне совершенно не хочется делать ни то ни другое.
Я был околдован, порабощен красотой Филиппинских островов. Экзальтированная восторженность свидетельствовала о моих явных психических отклонениях. Жизнь хорошего пехотинца чрезвычайно проста и прямолинейна, она сводится к самому необходимому. Этим определяется и отношение солдата к природе. При таком подходе небольшая ложбинка, впадина в земле превращается в убежище, куда можно залечь во время артобстрела, а роскошные зеленые луга и поля – в открытое пространство, опасную местность, которую надо пересекать короткими перебежками. Пехоту вечно перебрасывают с места на место в зависимости от стратегических планов и целей. Солдат теряет связь с природой, леса, холмы и реки становятся для него чем-то лишенным истинного значения. Ощущение нелепости всего происходящего ложится в основу существования солдата, становится источником его самоотверженности и героической беспечности. Но если страх, малодушие или склонность к самоанализу и рефлексии пробьют брешь в защитном панцире, то на поверхность поднимется нечто еще более бессмысленное для человека, полного жизни, – предчувствие смерти.
Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я медленно побрел вперед по тропе. Узкой полоской она тянулась параллельно пологому горному склону, нырявшему в лесную чащобу. По правую руку в просветах между деревьями я видел изумрудные холмы, позолоченные солнцем. Местами пуща редела, и подлесок, словно волшебная зеленая мантия, ниспадал к каменистой тропе. На вершине холма темнела вереница низкорослых деревьев. Они стояли рядком, точно шеренга солдат.
Я вышел из леса. Передо мной лежала долина. Песок, голыш, гравий и редкие пучки травы – высохшее русло; по всей поверхности разбросаны островки тростника, отливающего серебром в лучах жаркого солнца. Вдали, по самому краю долины, стальной проволокой вилась речка. А за ней высился холм, огромный, как гора Ёко в родном краю Тама. Темно-зеленый покров холма становился у берега светлее: здесь широкой полосой разрослись травы. Склон плавно спускался к долине, но потом неожиданно обрывался скалистым утесом, который, казалось, вонзился в пересохшее русло когда-то полноводной реки.