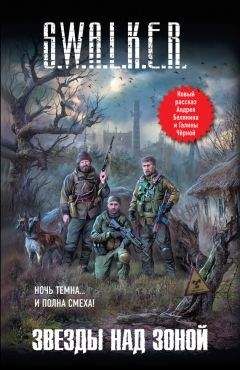Тимоша щелкнул пустым трофейным портсигаром и выразительно свистнул.
— Некурящий, — извинился лейтенант.
— Оно и видно, — снисходительно усмехнулся Пестряков.
Каждый про себя позавидовал некурящему.
Пестряков уселся на табуретку возле столика и спросил у лейтенанта:
— Карта есть?
— Пожалуйста. — Тот расстегнул планшет.
— Показывайте, товарищ лейтенант.
Пестряков расстелил карту, поставил на ее угол плошку и принялся изучать обстановку; при этом он нещадно теребил и хмурил нависшие брови.
Тимоша мешал ему сосредоточиться, потому что прилежно и затейливо ругал соседа слева, который засиделся, такой-сякой, во время атаки, а потом, такой-сякой, драпанул.
В тот вечер Тимоша да и все, кого фронтовая судьба свела в подвале на окраине немецкого городка северо-восточнее Гольдапа, не знали, что танковая дивизия эсэсовцев «Мертвая голова» ударила с севера в открытый фланг нашей подвижной группировки и прошла по ее тылам. В ожесточенном бою наши танкисты потеряли несколько машин, но вырвались из огненного мешка и отошли по горбатому мосту через канал; этот канал тянулся по восточной окраине городка. А городок, куда наши танки ворвались вчера, снова оказался в руках противника.
Тимоша упрямо продолжал сваливать всю вину на какой-то батальон, который драпанул на левом фланге.
— Дался тебе этот сосед слева!
— По-видимому, противник собрал танковый кулак, — предположил лейтенант, — и нанес удар стратегического значения.
— Не могут сейчас немцы… такой удар, — возразил Черемных тихо, но убежденно.
— Почему же?
— Потому что сам Черняховский операцией командует, — встрял в разговор Тимоша. — Черняховского следом за мной на этот фронт перебросили. Мировой мужик! Я его хорошо знаю.
— И давно? — Пестряков нахмурился, а усмешку спрятал в уголках рта.
— Видел однажды, — стушевался Тимоша. — На понтонном мосту, когда Десну форсировали. Потом мы встретились во вторичный раз. Под Оршей. На Минском шоссе…
— Понятно, — Пестряков ухмыльнулся в обкуренные усы, — Это когда Черняховский с тобой военный совет держал? Вас тогда всего двое и было. Командующий фронтом да ты, рядовой.
— Я тогда еще в младших лейтенантах ходил, — Тимоша заморгал белесыми ресницами. — Уже погодя в штрафную гвардию попал.
В подвале наступила тягостная тишина.
— Попал, да не пропал! — как можно бойчее сказал Пестряков и при этом повел шеей так, словно ему стал узок непомерно широкий воротник шинели.
Никто не стал расспрашивать Тимошу — о таких вещах допытываться не полагается.
— Но можно искупить свою вину, — поспешил с утешением лейтенант. — К вам вернется тогда звание, хорошая репутация и…
— В том-то и дело, — перебил Тимоша мрачно. — Репутация моя подмоченная.
— Огонь на войне все сушит, — через силу подал голос Черемных. — Высушит и твою репутацию.
— Если только успеет, — хохотнул Тимоша, — Гитлер-то уже доходяга… Так что двинусь я. Пока не кончилась война. Может, доберусь до своих…
3
Тимоша повесил автомат за спину, придержал рукой гранаты, висящие на поясе, решительно повернулся и сделал шаг к оконцу, показав при этом изодранную, всю в рыжих ожогах шинель.
Он уже собрался было выдернуть подушку из проема.
— Отставить! — прогремел Пестряков. — Некуда тебе сейчас идти. И нечего на авось воевать.
— Еще один командующий на мою голову! Ты что, с танка упал? Или забрался повыше — с крыши?
— Умственно нужно воевать, а не очертя голову. — Пестряков старался говорить спокойно, отвергая сварливый тон Тимоши.
— Да кто ты такой есть, чтобы командовать мной?
— Гвардии рядовой Пестряков.
— Ну вот видишь… А я все-таки разведка. «Глаза и уши»! Если бы вы, — Тимоша повернулся к лейтенанту, — приказ отдали… совсем другое дело!
— По-видимому, товарищ Пестряков прав. — Лейтенант залился румянцем. — Зачем же идти на верную гибель?
— Ты же нас от расстрела в спину выручил! — Пестряков стукнул черным кулаком по карте, и плошка подпрыгнула, как при близком разрыве. — А сейчас оставляешь без боевого питания. У тебя же целый клад — гранаты живые…
— Зато диск пустой, — развел Тимоша крупными, не по росту, руками. — Расстрелял. Чуть не до пуговицы. Караулил вашу эвакуацию…
— Знаю, что не расписывался пулями на заборе… Ну а пистолет трофейный?
— И вовсе холостой. — Тимоша пренебрежительно швырнул парабеллум в угол подвала.
— Прав Пестряков, — промолвил Черемных. — Стоящий солдат на рожон не лезет…
Тимоша внимательно посмотрел на Черемных, послушно отошел от оконца и уселся на пол. Он дунул в пустые ножны от кинжала:
— Мое холодное оружие…
— Тем более озорство — чуть не с голыми руками через фронт отправляться, — добавил Пестряков мягче, тоном убеждения. — И местность в лицо не знаешь. Как вы думаете, товарищ лейтенант? Нужно подсчитать боеприпасы, — тактично распорядился Пестряков.
Лейтенант торопливо кивнул в знак согласия.
У Черемных и лейтенанта оказалось по семнадцати патронов — по девяти в пистолетах и по восьми в запасных обоймах.
У Тимоши в диске осталось всего-навсего три патрона и, после того как он подорвал кухонную плиту, четыре гранаты.
Пестряков насчитал у себя в диске автомата двадцать три патрона, гранат у него не осталось, из холодного оружия был кинжал.
— Все боевое питание разделим потом по справедливости, — решил Пестряков. — Арсенал-то у гарнизона нищий. Так что беречь каждый припас!.. А карту я покуда, товарищ лейтенант, у себя оставлю. — Он властно разгладил сгиб карты черной костлявой рукой.
— Я за карту отвечаю. Обязан вернуть, как только…
— Вот именно — как только! В этом «только» вся суть и прячется. Карта имеет цену, когда ее живые руки держат…
Лейтенант отдал Пестрякову свой слегка обугленный планшет. Затем он решительно расстегнул на груди кожаную куртку, извлек кумачовый сверток и положил на стол.
— Наше знамя, — произнес лейтенант, волнуясь. — Танковой бригады…
От полотнища пахло дымом, горелой материей.
Пестряков встал с табуретки.
Черемных облокотился, как бы порываясь встать с кушетки.
Тимоша при виде знамени тоже поднялся с пола, подтянулся.
«Вот почему лейтенант наш ходил такой высокогрудый! — Пестряков посмотрел на него с симпатией. — И что мне, старому хрычу, не понравилось в нем? Румянец еще не слинял? Румянец воевать не мешает. Курить не научился? Здоровее будет. Замполит Таранец тоже из некурящего сословия… У знамени вот осколками материя посечена, краешек обугленный, — наверное, выручил от огня в самую горячую минуту…»
Сообща решили упрятать кумачовый сверток в мороженицу, стоящую в углу подвала. Если хоть один из них, из четырех, останется жив — вместе с ним выживет и знамя…
Лейтенант сидел на полу подвала, держа руку на груди, там, где еще недавно прятал знамя. Он прислонился кожаной курткой к стене, спиной ощущая стылый камень, и мучительно обдумывал все происшедшее.
Решение спрятать знамя в подвале, безусловно, правильное и сомнений не вызывает. Чего тут долго раздумывать? Вчетверо увеличились шансы на спасение знамени, арифметика простая.
Но лейтенанта смущала легкость, с которой он добровольно подчинился усатому десантнику, этому Пестрякову.
Ведь что значит в подобной обстановке отдать свою карту? Это равносильно тому, чтобы отказаться от командования. У кого карта — тот и командир.
«Конечно, у рации я — главный. В училище даже окрестили снайпером эфира. И сейчас знаю шифр на память. Взялся бы передать в штаб любую секретную радиограмму. Еще не разучился стрелять по движущимся целям.
Только где она теперь, моя рация? Кому нужен шифр? Где мой пулемет, где они, движущиеся цели?.. Ну а под открытым небом… И раненого я нес нескладно. И ошибся насчет углового дома. И про карту десантник вспомнил раньше. И взялся за перевязку. И штрафника этого не пустил на верную гибель… Значит, все дело в том, что десантник — рядовой? Но ведь я — танковых войск лейтенант! А если бы в этом подвале оказался летчик, интендант или, допустим, военфельдшер? Брать на себя командование из ложного самолюбия? Все равно как если бы врач-психиатр взялся лечить чью-то блуждающую почку — не то ее нужно вырезать, не то пришить. Ну а если бы люди из-за моей амбиции пострадали? Ведь три жизни, не считая собственной!..»
4
Пестряков был бесконечно далек от подобных переживаний.
Он сидел за столиком, уронив голову в мятой пилотке на задымленные до черноты руки, лежащие на карте. Голова шла кругом, и тошнотный ком стоял в горле. Такое самочувствие было у него только однажды в жизни, когда он, еще парнишкой, попал на ярмарку и после карусели долго катался на качелях, а потом залез на «чертово колесо». Но тогда весь слух при нем оставался, не то что сейчас! Его так и тянуло улечься на пол, но он упрямо противился контузии.