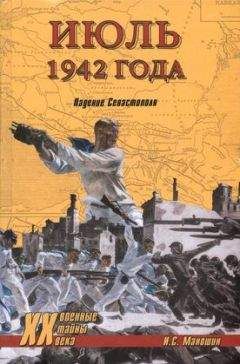– Успокойся, Юльхен, так будет называться полуостров Крым на теплом, южном Черном море. Пока об этом мало кто знает, но название замечательное. Ведь там когда-то жили наши предки готы. Вам там об этом не сказали, Курт?
– Как-то нет. Возможно, в мое отсутствие, – ответил я. На формулировки вроде «наши предки готы» я не реагировал с двенадцати лет. Но в очередной раз изумился странным представлениям дяди об источниках знаний у студентов философского факультета.
* * *
Часа через два, когда все основательно подогрелись, а чуть не уснувшую было Юлию в сопровождении матери торжественно отправили спать (похоже, на сей раз госпожа Кройцер была щедра как никогда), мы разошлись по разным углам. Я оказался рядом с Гизель – в креслах у большой напольной лампы, красноватый свет которой лишь усиливал полумрак, придавая обстановке то, что принято называть атмосферой. Нашу беседу можно было отнести к разряду светских.
– Ты долго лежал в госпитале? – Честно говоря, я не заметил, когда мы перешли на «ты», но это нисколько меня не обескуражило.
– Месяца два.
– А что раньше? (Молодец, она не стала спрашивать о ранении, в отличие от глуповатой особы в берлинском поезде, битый час изводившей меня вопросами о том, куда мне угодило и что я при этом почувствовал.)
– Мотались туда-сюда. Рыли землю. Иногда стреляли.
– Это страшно? (Еще раз молодец. Особа из берлинского поезда интересовалась, убил ли я кого, насколько я в этом уверен и как выглядят мертвые русские.)
– Когда как. Иногда очень. Но в целом привыкаешь.
– Ты долго здесь пробудешь?
– Две недели. Потом поеду в Берлин, оттуда – в Россию.
– В свою часть?
– В свою.
– К товарищам?
– Угу.
Мы не знали, о чем говорить. Прежде едва знакомые, мы не имели общих воспоминаний, а дальнейшее углубление во фронтовую тему грозило вызвать ненужные мысли о погибшем Густаве (так звали ее жениха, сгоревшего в подбитом танке; «Как это ужасно! Бедный мальчик», – успела утром прокомментировать обстоятельства его гибели матушка). К счастью, после Крыма я стал достаточно смел, чтобы уверенно взять Гизель за руку и поднести украдкой к губам ее в меру тонкие пальцы. Она растроганно кивнула и как бы доверчиво улыбнулась. Нас не смутил даже внезапно нависший над нами дядя.
– Кстати, о служебном росте. Ты у нас теперь кто? Старший стрелок? Что дальше, когда? Унтерофицер, кандидат на офицерский чин?
Я определил свою верхнюю планку без лишних иллюзий:
– Максимум старший ефрейтор.
– Ефрейтор – мое любимое звание, – проговорила Гизель и ласково пожала мне руку, не смущаясь присутствием моего веселого родственника..
– Куда уж выше, – хохотнул дядя, после чего опять переместился в направлении стола, где госпожа Нагель, напевая что-то из Штрауса-сына, разливала по бокалам содержимое новой бутылки.
Лейтенант Густав Кранц, как и я, закончил гимназию имени братьев Гримм, но вместо университета подался в фаннен-юнкеры танкового полка, чтобы в положенный срок сделаться офицером. Гизель не сообщили подробностей его гибели и правильно сделали. В Крыму я не раз видел сожженные русские танки, а однажды – сгоревших русских танкистов. Зрелище было не из приятных. Они были совсем молодые, такие же, как мы, и их тоже кто-то ждал. Но сожалений не было, встреча с ними ничего хорошего не сулила.
* * *
Госпожа Нагель завела патефон. Настала пора, ради которой и устраивается бо́льшая часть вечеринок. Я приподнялся с места, однако выплывший из полумрака дядя ловко похитил Гизель и увлек ее за собой – в полумрак. Пошатываясь, я последовал за ними, имея целью перехватить девушку моей мечты, пока на место дяди не заступит ухажер госпожи Кройцер. Тот уже стоял посредине комнаты и, нетвердо держась на ногах, целил глазами в ту, что по совести предназначалась мне. Ему не повезло – я без лишних церемоний завладел своею Гизель, едва лишь смолкла первая мелодия, чтоб больше не выпустить добычи из рук. Дядя поспешно переместился к моей разомлевшей и глупо улыбавшейся матушке, тогда как ухажеру госпожи Кройцер пришлось довольствоваться госпожою Хаупт, чья физиономия за вечер так и не сделалась менее постной, а фигура не стала тоньше. Поскольку он также отличался корпулентностью (было, кстати, непонятно, куда исчез объект его матримониальных планов), парочка вышла весьма представительная. Но нам было не до них, мы были заняты друг другом, что бы ни думали по этому поводу наши матери, двое мужчин и госпожа Нагель.
– Ты придешь послезавтра? – прошептала Гизель, обвивая мне шею руками и прикасаясь щекою к моей.
– Почему послезавтра? – спросил я, крепче сжимая объятия и осязая всё, что позволяет почувствовать медленный комнатный танец. Грудь девушки оказалась больше, чем думалось, и это наполнило душу трепетом.
– Мама с утра на службе, а я буду дома. Поговорим. Нам ведь есть о чем поговорить?
– Полагаю, что есть. – И ощутивши новый прилив храбрости, я медленно провел рукой ей по спине, не обращая внимания на глядевшую в нашу сторону госпожу Нагель. – Тебя ведь интересует искусство средневековой Далмации?
– Это где?
– На теплом Адриатическом море, которое гораздо теплее Черного. С одной стороны Италия, с другой Далмация. Там живут хорваты и сербы.
– Сербы – нация убийц, – улыбнулась она. – Расскажи мне лучше про искусство Италии. У тебя ведь имеются книжки с картинками? Я обожаю Ренессанс.
– У меня есть сотня прекрасных книжек с чудеснейшими картинками. В том числе и про Ренессанс.
– Значит, до послезавтра?
Мы распрощались лишь за полночь. Легкое сожаление, что придется терять целый день, когда всё лучшее столь близко и доступно, не покидало меня в постели еще добрую четверть часа. А потом я уснул. Уверенный, что мне приснится Гизель. Но вместо Гизель мне приснилась Клара.
Большая немецкая любовь
Курт Цольнер
6 апреля 1942 года, пасхальный понедельник – 19 апреля, суббота
Из четырнадцати дней отпуска уже миновало два. Вернее, прошел всего один, но на следующий мне ничего не светило. И это повергало в уныние.
Несмотря на церковный календарь, праздники кончились. Мать еще до обеда ушла на службу, Юльхен уселась за уроки. («У меня завтра латынь. Представляешь? Этим ретроградам даже мировая война не указ».) Я отправился слоняться по улицам. Штатское надеть постеснялся. Несмотря на патрули.
Мой путь оказался извилист. Сначала я прошелся до ратуши, потом свернул в переулки, по привычке побрел к университету. Спохватившись на полдороге, решил подняться на холм, где стояли клиники Медицинской академии. Оттуда открывался отличный вид на город.
Тут, на одной из площадок, разделявших марши уходившей в гору лестницы, я и встретил Клавдию – небольшое толстенькое существо, отсутствовавшее в моем сознании на протяжении времени, проведенного в армии, да и ранее почти не занимавшее в нем места. В гимназические годы я знал ее благодаря нашим общим знакомым. Затем, подобно мне, она оказалась в университете. Не отличаясь внешней красотой, выбрала практически закрытый для женщин путь филолога-классика, войдя в число тех, кого Юльхен поутру обозвала ретроградами. Теперь же я рад был и Клавдии, а ее озарившиеся счастливой улыбкой серые глазки показались мне милыми, умными и уж во всяком случае не пустыми. (Именно этим словом моя мамочка спешила заклеймить глаза всякой особы, способной вызывать у мужчин интерес.) Я крепко сжал протянутую руку и в странном, невесть откуда взявшемся волнении выдохнул:
– Где ты теперь? Учишься?
Она смущенно улыбнулась и ткнула пальцем в светло-серое санитарное платье, угодив в неясно прорисованный бугорок, намекавший на место для бюста. Я закивал, по-прежнему не выпуская маленькой ладошки из рук. Пару раз растерянно мотнул головой.
– Ты знаешь, где Клара? – спросила она.
Это было то самое, о чем я хотел узнать вчерашним утром, но о чем совершенно забыл вчерашним вечером. Не случайно Клара, словно спохватившись, напомнила о себе, заявившись в мой сон. Теперь вот выслала навстречу Клавдию.
– Где? – спросил я, попытавшись изобразить интонацией радость – «изобразить» не потому, что радости не было, а потому, что и сам не знал, что со мной происходило.
– В нашем госпитале. В клиниках. Мы работаем рядом, в одну и ту же смену. Я уже освободилась, а она еще нет, там какая-то операция. Так что иди, она тебя хочет видеть. Valde, valde!
«Какая же ты милая и глупая идиотка», – подумал я и ответил:
– Gratias tibi ago, cara mea Claudia.
Для начальных классов вышло совсем не плохо, хотя в гимназии я ухитрялся вести и более содержательные диалоги – теперь не верилось, что подобное было возможно.
Я хотел приобнять ее на прощанье, но она сама проворно схватила меня за плечи, встала на цыпочки и ловко чмокнула в губы. Подобной прыти я не ожидал. Похоже, что война и ей пошла на пользу. Довольная и раскрасневшаяся, она махнула на прощание рукой и стремительно унеслась, вероятно вспомнив, что я предназначен для Клары. Так мне стало известно, зачем еще нужны солдаты. Они последний шанс дурнушек.