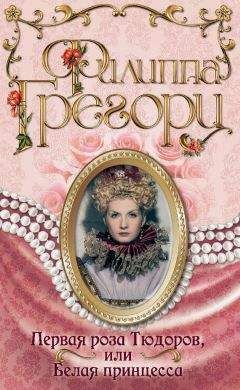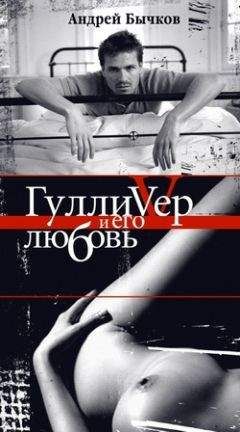Мы позавтракали с Зауэрами м двинулись в военкомат. Мешки с вещами и плащи на всякий случай прихватили с собой. Но Дима не прощался с Зауэрами, пообещав прибежать, если нас возьмут на войну.
Лысый, сивоусый капитан хмуро рассмотрел наши паспорта — квадратные листы из синеватой гербовой бумаги с фотографиями, — затем вернул их и скучливым голосом предложил зайти через неделю. Во дворе военкомата строились команды, и молодые лейтенанты куда-то их уводили…
Мы бесцельно бродили по пыльным улицам, плутали по мостам, перекинутым через рукава и рукавчики дельты; забрели на рыбный рынок, потолкались на барахолке; не без трепета душевного взирали на угрюмый кремль с высокими стенами.
Через два дня кончилось сало. Мы стеснялись мозолить глаза Зауэрам и питались в столовках дешевой рыбой, приготовленной во всех видах. И потихоньку спускали неказистые свои вещички на толкучке.
А спать приходили к немцам. Странные дела творятся на белом свете! Мы бежали от одних немцев, пришедших нас убить, а нас приютили другие.
Спали среди мешков и тюков, закутавшись в плащи, а сверху Ирма набрасывала все, что попадало под руку. Гертруда Эвальдовна, маленькая бойкая женщина, без конца повторяла: «Майн гот, зачем такие муки? Я тебя не понимаю…»
Ирма попыталась развлечь Диму, которого злила вся эта неопределенность, и напросилась прогуляться по городу. Но Дима замкнулся, сердито поглядывал на чудные дома с башенками и высокими крылечками. И всюду резьба по дереву — петухи на коньках домов, чайники и бараны на ставнях и перилах. Изумляли сказочные горбатые мосты, перекинутые через многочисленные каналы и протоки, и все заглушающий запах рыбы вперемешку с соленым морским бризом и зноем пустыни, которая начиналась за крайними домами. И необъятная Волга… Да, это была еще Волга, но уже и начиналось Каспийское море.
— Что такой невеселый, Дима? — теребила за рукав Диму девушка и быстро и боязливо взглядывала на него. — Папа сказал, что вы можете с нами, раз пока в армию не берут… Он занесет вас в список…
— Что? — встрепенулся Дима непонимающе уставился на девушку. — В какой список?
— Папа говорит…
Поздним вечером мы помогли Зауэрам погрузиться. Ирма с грустью расставалась с вами. Впрочем, я догадываюсь, что по мне она скучать не будет. И сразу защемило сердце. Как там Инка с больной матерью? Как там наши? Где немцы? Я даже представить не мог, как это по нашей улице идут немцы в касках с засученными рукавами.
Они жрут белый хлеб, сало, зажаренных кур и хохочут. Жрут и хохочут!
Я скрипел зубами от бессилия и плакал во сне.
Не Диме, мне Ирма сунула в руки сверток и убежала на пароход. Когда его огни скрылись в густой ночи, я приподнял край полотенца и увидел добрый шматок шпика, обсыпанный красным перцем.
Непогода загнала нас в столовку, где мы закусили салом с хлебом и запили чаем.
Откуда-то из-за фикуса раздался величественный голос Левитана: «…Двадцать седьмого и двадцать восьмого ноября части пятьдесят седьмой и девятой армий освободили от немецко-фашистских войск город Ростов-на-Дону!»
О Шахтерске ничего не было сказано, но мы воспрянули духом. Если же Ростов освобожден, то Шахтерск и подавно!
Решили возвращаться домой. Назад в Сталинград уехать оказалось еще труднее. Два раза нас застукали и довольно невежливо выдворили с парохода. Хорошо, что без милиции обошлось. Но мир не без добрых людей. Усатый дядечка в роскошном кителе и с крабом на белой фуражке приметил долговязых парней, без дела слоняющихся по пристани, и предложил поработать матросами до Сталинграда.
Мы грузили на пароходик продукты, потом помогали кочегару, дежурили на барже, которую, надрываясь, тянул буксирчик. Вдобавок я чуть не утонул в том рейсе, единственном и неповторимом в моей жизни. Вымотавшись в кочегарке, я приткнулся на палубе на каких-то мешках и так крепко заснул, что пришел в себя, когда хлебнул воды за бортом.
Димка увидел, как я спросонья свалился за борт. Не раздумывая, он бросился за мной и выловил за волосы, на его крики выбежал наверх боцман и спустил шлюпку, подобрал нас уже в километре от каравана. «Дожился, старая шаланда, — ворчал себе под нос боцман. — Валандайся с камсой!»
В Сталинграде мы разделились. Димка решил заехать к сестре и прихватить продуктов, а я отказался.
Я ехал на открытой платформе, заваленной тюками прессованного сена. На редких степных станциях я обменивал свои вещи на еду. Черноволосые и скуластые калмыки привозили арбузы в арбах на вылинявших и злых верблюдах. За пару носков давали столько арбузов, сколько унесешь в руках. От арбузов у меня расстроился желудок, и я смотреть на них не мог.
Ночью на платформу подсели мужчина и девушка и долго устраивались среди тюков. Мы перекинулись несколькими словами. Мужчина немолодой, насупленный. Он окинул меня прищуренным взглядом и скорее ощерился, чем улыбнулся. Девушка была в темном потрепанном пальто. Ее длинные спутанные волосы почти закрыли бледное, без всякого выражения лицо.
Перед сном я на всякий случай привязал брючным ремнем мешок к руке, да так с этим ремнем и проснулся. Ни мешка, ни той подозрительной парочки. Неприятно похолодело в груди. Вспомнилось недоброе лицо мужика. В мешке ничего особенного не было. Пожалел тетрадь, в которую записывал свои впечатления от путешествия, и еще буханку хлеба.
Над степью с темными лощинами и желтоватыми прогалинами, разбросанными там и сям, вставало огромное ярко-малиновое солнце.
Неясные розовые блики бежали по равнине.
Мчался паровоз, раскачивался впереди кажущийся черным товарный вагон, точно плыла над землей моя платформа, черно-розовый дым слепил меня, скрывал степь, и лишь огненный, разросшийся до неба шар будто втягивал нас в свое курящееся нутро…
Ветер внезапно бросил в лицо клуб дыма, я задохнулся и словно растворился в тошнотворной гари, а когда открыл глаза, поразился новой картине: желтое солнце уже довольно высоко висело в белесом небе, в степи желтела высохшая трава, от норы к норе бегали суслики, и мне чудился их посвист. А вот прыгает тушканчик — живой трепещущий комочек.
Изрыгая мощные клубы дыма, паровоз споро махал дышлами, круто поворачивал на север.
С большой узловой станции Лихая пришлось ехать на тендере «кукушки», вымазался как черт угольной пылью. На другой день мама повела меня в магазин и купила туфли, рубашку и брюки.
В ту первую военную осень немцы не дошли до нашего города. Шахты не были взорваны. Жизнь быстро наладилась, открылись магазины, мастерские. Заработал и хлебозавод, на который мы с Димой и поступили: я — слесарем, а он — тестомесом.
Ина устроилась на шахту учетчицей, а Федор — в собес — писал заявления старушкам. По двадцать копеек за штуку.
Владимир и Ксения эвакуировались с заводом в Свердловск. Иван Петрович Кудрявый, Федоров отец, с частью шахтного оборудования уехал в Караганду. Ульяна Кирилловна тоже уехала с ним, а Федор остался. Почему остался? Дом стеречь?
Длинными зимними вечерами мы собирались у Федора. Работные люди, сами себе хозяева, при деньгах Вот так!
Крутили пластинки, играли в флирт, модную тогда игру. Карточки с вопросами и ответами составляли сами. Особенно они удавались мне. Без передышки я написал их несколько десятков.
Например, Ина протягивала мне карточку из плотной белой бумаги, которую мы доставали у знакомых студентов горного, и говорила: «Фиалка». А дальше я читал: «Почему ты такой сердитый?» Я отвечал: «Мимоза. Тебя интересуют веселые и легкомысленные?»
«Роза. Мне нравятся веселые, а не надутые».
«Трактор. Лучше искренность, а не лицемерие».
Этот «флирт» мог длиться бесконечно и, как нам казалось, помогал выяснять отношения без риска быть громогласно поднятым на смех.
На эти вечера уже приходили Зинка и Нинка. Я и не заметил, как они заневестились, уже строили ребятам глазки.
Нинка осаждала меня коварными вопросами.
«Волга. Неужели тебе нравится эта Му-у-у?»
И глазами показывала на Ину, стараясь при всех надерзить ей. Но Ина снисходительно посмеивалась и пробовала погладить Нинку по головке, как маленькую. Нинка взвизгивала от возмущения и убегала.
Иногда поздним вечером слышался сдвоенный гул немецкого самолета, все затихали, тут же выключался свет. Если близко рвались бомбы, девчата визжали и лезли под стол, а мы, парни, нервно смеялись.
Танька Гавриленкова стала удаляться с Ванькой Куксиным в темную боковую комнатушку и позволяла себя целовать. Это она и предложила играть в «чайник» На минуту выключался свет, в боковушку заходили парень и девушка, впопыхах натыкались друг на дружку, разыскивая табуретки, наконец садились спинами друг к другу, называли имена и целовались. Если кто ошибался, позорно выскакивал, а напарник выставлял из комнаты пустой чайник! Смеху и хохоту — верблюд на арбе не увезет!