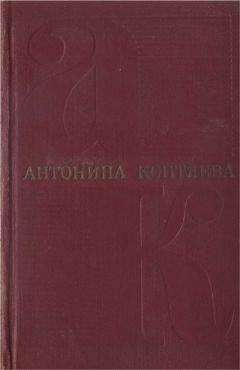«Особенно не волнуйтесь, — написал он ниже, — не один я здесь такой, а все, кто может держать оружие. К тому же работа моя не опасная. Иду я со своими санитарами позади бойцов, вернее — ползем мы с ними и подбираем раненых. Мальчишки пусть учатся, не сдавая темпов. Наташеньку берегите. Сделайте ей летнее пальтецо из моего белого пиджака. Ей оно пойдет. Я на тебя, Лена, полагаюсь, как на самого себя. Много хорошего ты мне дала, женка! Теперь я тебе и за то благодарен, что через твое упрямство Сибирь полюбил. Заняли немцы Украину, Крым и родную Кубань. Очень это мне больно, но знаю, как велика и сильна наша страна. Здесь тоже хорошо, если бы не война. Помидоры растут по блюдцу, а тыквы… Вот где тыквы-то — не обхватить! Растут себе на степном приволье без всяких ухищрений.
Привет вам от Ивана Ивановича. Он работает в госпитале ведущим хирургом. И знаешь, Лена, по всем приметам, влюбился он здесь в военного врача Ларису Петровну Фирсову. Очень даже стоящая женщина, но семейная. Понимаешь, какой трудный оборот опять получается? До свидания, мои дорогие. Крепко вас обнимаю и целую.
Ваш отец
Денис Хижняк».Фельдшер бережно свернул письмо, вложил его обратно в конверт, крупно написал над адресом: «Авиапочта», и зашагал к блиндажу, где находился почтальон.
47
Полевой подвижной госпиталь превратился фактически в медсанбат. Все врачи приняли это как должное и продолжали работу по-прежнему. Один Смольников был словно на иголках. Румяные щеки его заметно побледнели за последнее время, даже лысина утратила блеск и розовость. Он еще жевал что-нибудь по старой привычке через каждые два-три часа, но упитанность заметно спадала с него.
— Григорий Герасимович, что вы такой тощий? Кушали бы, как наш красавчик Смольников, «понемножку, но часто» — глядишь, и похорошели бы! — пошутила бесцеремонная Софья Вениаминовна перед началом смены.
Решетов нахмурился. Иван Иванович иронически усмехнулся.
Софья тоже чувствовала, что Смольников ненадежный человек, а обстановка складывалась очень серьезная… Софья даже забросила ежедневные обливания холодной водой и в ожидании Ларисы научилась скучать.
— Проснулась сегодня ночью и так затосковала, не могу одна в избушке находиться, да и только, Бояться стала, что ли?.. — громко говорила она Решетову. — Вышла во двор — вроде легче. Вытащила постель и устроилась на открытом воздухе. Лежу и слушаю — в Сталинграде дикий рев, на западе и на юге бухают; лежу и думаю: «В огненном кольце находимся!» Встала опять. Хожу, смотрю на зарево над Волгой: небо прозрачно-красное, будто раскалилось. Повернулась к Дону — там все горит. Заплакала я, ну просто разревелась, — каково теперь нашим бойцам.
— Всем достается, а солдатам особенно. Вчера я одного оперировал… Могучий парнюга, батареец. Кулачище — во! — Решетов, действительно очень похудевший за последние дни, сложил свои кулаки, тряхнул ими. — «Ты, говорит, доктор, починяй меня как следует. У меня работа тяжелая, горячая. Чтобы выдюжить». Я думал, он в тыл собирается, а он в строй обратно хочет.
— У немцев тоже свои герои есть, — вмешался в разговор Злобин. — Сегодня наши трех снайперов взяли в плен, на всех троих оказалось три ноги…
— Как же это? — удивились врачи.
— Смертники, наверное. Ведь фашисты иногда своих пулеметчиков на цепь приковывают, — сказал Решетов задумчиво и даже сочувственно.
— Все одноногие инвалиды, но снайперы сверхметкие, — продолжал Злобин, еле заметно усмехнувшись. — Их специально на машинах подбрасывали. Наши солдаты заинтересовались: как они рискнули пойти снова на фронт после таких ранений? «Что, мол, вас потянуло?» Думали, скажут: за идею, за родину… Хотя бы за фюрера! А ответ был совершенно в духе гитлеровской грабь-армии: будто фюрер обещал им по имению, если они истребят достаточное число русских.
— Я думаю, мы должны теперь обратиться в санотдел армии, — сказал Смольников, когда Решетов объявил начало очередной пятиминутки. — Подадим рапорт всем коллективом.
Решетов, сутуля широкие плечи, удивленно посмотрел на него.
— О чем?
— Мы не имеем права подвергать риску своих раненых, — ответил Смольников, не сумев скрыть волнения: обычно плавные движения его рук сделались неловко суетливыми. — Мы полевой подвижной госпиталь, а стоим на линии медсанбата. Это накладывает большую ответственность… Не тот профиль. Нельзя здесь, в непосредственной близости от фронта, в обстановке, так сказать, полуокружения, госпитализировать раненых.
— Что же, прикажете оставлять их на поле боя? — непривычно побагровев, спросил Решетов. — Мы должны заботиться не о названии своего госпиталя, а всеми силами помогать защитникам города. Я лично одного лишь боюсь: чтобы нас не отозвали за Волгу.
В землянке, заменявшей и ординаторскую, и конференц-зал, послышались восклицания:
— Правильно!
— Пусть будем медсанбатом, в чем дело?
— Кому нужно переваривать пищу спокойно, пусть отправляется в тыл.
— Ну что вы, товарищи! Ведь я о раненых хлопочу, — запротестовал сконфуженный Смольников.
— О них здесь нужно хлопотать! — сказала Софья Шефер.
— Тем более что переправиться сейчас через Волгу — такое же серьезное дело, как побывать в атаке, — напомнил Логунов.
Проводив Коробова с эшелоном раненых, эвакуированных на левый берег, он сам остался в госпитале, хотя всей душой рвался в Сталинград, где находилась Варвара; простреленная нога его распухла, появились покраснение, сильная боль, и поневоле пришлось лечиться. А как только в политотделе дивизии стало известно, что Логунов задержался здесь, его назначили комиссаром госпиталя.
Услышав слова Логунова насчет переправы, Иван Иванович понял, что Платон беспокоится о Варе.
«Милая Варенька, как она сожалела, что ей приходится воевать по тылам, и вот попала в самое пекло».
Выйдя после работы из блиндажа операционной, Иван Иванович поднялся на бугор и посмотрел вокруг. Восточная линия горизонта тонула в сплошном дыму, в голо-холмистой степи тоже повсюду виднелись сизые дымы пожаров, из которых выступала, точно кулак, водонапорная башня железнодорожной станции.
Невеселый вид и днем!
«Уж на что крепкая Софья Шефер, ничем ее не проймешь, и то затосковала. А Лариса? Где же Лариса? Конечно, она уехала совсем. Забрала своих малышей, мать и переправилась за Волгу. Ей это простительно. Она — не Смольников. Ишь ты, о чем он беспокоится: не тот профиль госпиталя!» И снова мысли Ивана Ивановича устремились к Ларисе, такой женственной и такой непреклонной. Хорошо, что уехала, когда-нибудь он все равно увидит ее! Но если… Верно сказала Софья: дикий рев стоит над Сталинградом. Точно сама земля рычит, обезумев от боли и гнева.
48
— У нас новый санитар появился, — сказал Логунов в госпитальной палате.
В подземелье после яркого дневного света казалось темно, но Иван Иванович сразу разглядел среди двухъярусных нар тонкую фигуру Лени Мотина.
— Я его давно знаю! — Хирург улыбнулся Лене, спросил нарочито строго: — Опять, наверно, не спал, не ел, не «чай пил»?
— Никак нет. Покушал основательно, — четко отрапортовал Мотин и сразу сбился на домашний тон: — Томочка нам такой суп сготовила!
— Суп ты только пробовал, — выдал его кто-то слабым голосом. — Гляди, если перестанешь ноги таскать, нам легче не будет.
— Чувствуете, товарищ военврач, как ограничивает свои потребности санитар Мотин? — полушутя заметил Логунов. Ему тоже нравился этот старательный паренек. — Письмо от родных получил?
— Нету. Придет почтальон, выложит письма на стол. Я подойду, смотрю, смотрю, нет ли мне в ответ хоть две строчки, а ничего. — Мотина очень удручало молчание родителей. — Другие каждый день получают, а я жду, жду… Скучно ждать. Мамаша малограмотная, а братишки и сестренки — все мелкота… Отец на фронте… Может, погиб уже… — И, стесняясь, что столько времени отнял своими печалями, Мотин торопливо добавил: — Иван Иванович, вы посмотрите, какой у меня теперь помощник.
Все трое прошли в глубину блиндажа. Аржанов поискал взглядом и увидел мальчика, сидевшего на краю нар. Маленькая ручка смуглела на белой повязке, охватившей плечо и грудь раненого, ножонки далеко не доставали до земляного пола.
— Я дружу и с гражданскими, — тоненьким голоском говорил мальчик.
— Значит, ты военным хочешь стать? — спрашивал раненый. — Лучше уж инженером или учителем. А что хорошего военным быть? Видишь, какая она страшная, война-то?
— Страшная, — серьезно согласился мальчик. — У нас бабушку и Танечку фашисты убили. Бомбами. Я тоже был засыпанный. На нас весь дом свалился.
— Чей это? — Иван Иванович, уже догадываясь, взволнованно обернулся к Логунову.