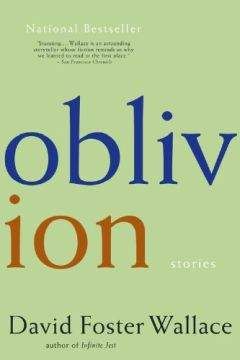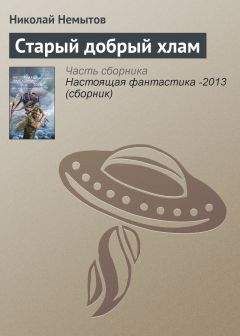Ромка вон усы отпустил назло учителям. Минас тоже мог бы при желании, но он аккуратно бреется. А у Ивы лишь рыжеватый пушок какой-то пробился, брей не брей, все одно ничего не видно…
Сразу по окончании училища, прибыв в часть, Алик сфотографировался. И прислал всем по фотографии. В летной форме, в шлеме, совсем не узнать человека, хоть и без усов. Получается, что один Ива каким был, таким и остался, но тем не менее мама без конца повторяет:
— Ты у меня совсем уже взрослый мужчина…
И вздыхает почему-то.
Ива всматривался в Джулькино лицо. Глаза у нее светло-серые и прозрачные, а ресницы иссиня-черные, прямыми длинными стрелками. Только раньше почему-то никто не замечал этого, не говорил:
— Вы посмотрите, до чего же красивые у нашей Джульки глаза и ресницы! Такое редкое сочетание…
Могли бы сказать и о том, что волосы у нее тоже хороши, темно-каштановые, густые. Небось когда заходил разговор о Рэме, так сразу начиналось:
— Какая коса!.. Какой удивительный цвет лица!.. Какая точеная фигурка!.. Ах, ах!..
Ива знал: Джулька терпеть не могла эти разговоры. Подумаешь, коса! Захотела бы, две косы заплела!..
Рэма училась теперь в школе военных фельдшеров, дома почти не бывала. А когда пришла в последний раз, то все опять ахнули, но только по другой причине — на Рэме была ладно пригнанная гимнастерка с погонами, зеленая суконная юбка и кирзовые сапоги.
Из-под пилотки аккуратным полукружием спадали коротко остриженные волосы. Не было больше знаменитой пепельной косы с нежными завитушками, в которых, запутавшись, горели золотом солнечные лучи. Не было той прежней Рэмы, таинственной и неотразимой. Посреди двора в тени старых акаций стоял маленький строгий солдатик.
— Вы стали неузнаваемой! — не удержалась Ивина мама. — Совсем взрослой, — тут же поправилась она.
Рэма улыбнулась в ответ. Ямочки на щеках превратили ее в прежнюю Рэму, а Ива подумал, что форма даже идет ей, что она просто прекрасно выглядит в этой гимнастерке и кирзовых сапогах.
Кстати сказать, сапоги больше всего возмутили мадам Флигель и ее дочь.
— Калечить девочке ноги этими жуткими, этими ужасными колодками! Сними их сейчас же! И зачем только ты пошла учиться на военного фельдшера с такими твоими талантами? Если уж тебе так захотелось медицины, поступила бы себе в институт.
— Институт — это долго, — отвечала Рэма. — В институт я поступлю после войны.
— Она рассчитывает попасть на фронт! Мы не переживем это. Нет! Разве нам мало, что твой папа Гриша и твоя сумасбродная мамочка уж три года рискуют жизнью, не боясь оставить тебя сироткой… Да сними ты эти отвратительные сапоги, от них пахнет казармой! Надень туфли!
— Нельзя туфли. Сапоги — часть формы; я же теперь военный человек.
— О-о!.. Если с тобой что-нибудь случится, нам не пережить этого, так и знай!.. А такие сапоги ты все равно носить не будешь. Мы закажем тебе другие, из кожи.
— Вы что, они же стоят бешеных денег!
— Да, это с ума сойти какие деньги, но ты нам все-таки немножко дороже. Закажем Михелю, с ним можно поторговаться…
— Такой старый калоша, как ты, надо носить другой старый калоша, — сказал Михель, выслушав мадам Флигель. — Я не пуду тебе шить сапоги.
Только сообразив, что речь идет о Рэме, Михель согласился принять заказ.
— Пусть придет, надо снимать один мерка. Товар пуду ставить свой, хороший товар — хром! На подклейка тоже хром. И спиртовый подметка пудет…
Взял Михель за сапоги очень дешево, но мадам Флигель все равно осталась недовольна.
— Что можно ждать от этого замаскированного фашиста?! Сейчас, когда их там, на фронте, бьют, так он берет дешево, а закажи мы ему сапоги раньше, когда над городом летали ихние аэропланы и пускали газ, будьте уверены — содрал бы три шкуры да еще подсунул бы гнилую кожу!..
ЧЕЛОВЕК УШЕЛ В ОБЛАКО…
В комнате было накурено, пахло жареным мясом и вином. Летчик угощал друга, старого своего друга, с которым не виделся очень давно, с финской войны.
О том, что тот будет проездом в городе, летчик знал заранее, за несколько дней. И попросил Цицианову помочь ему принять гостя.
— Мне неудобно так часто беспокоить вас, Кетеван Николаевна, но, понимаете ли, сам я способен сотворить лишь примитивный солдатский харч, который ему осточертел за многие годы службы. А хотелось бы угостить по-домашнему. К тому же он никогда не бывал на Кавказе.
Цицианова, прямая и величественная, удивленно подняла брови.
— А вы, оказывается, церемонный человек, Павел Александрович. Никогда бы не подумала. А еще сосед!
— Дело не в церемонии… — Летчик смущенно улыбнулся. — Но ведь это такое беспокойство, согласитесь сами…
— Так чем бы вы хотели угостить вашего друга?
Меню разрабатывалось подробно, и летчик только диву давался, как это здорово получается у Цициановой.
— А как вы собираетесь сервировать стол? — спросила она.
— Сервировать?.. Да вот… есть у меня тут кое-что из необходимого, — летчик открыл нижние створки книжного шкафа, достал несколько тарелок, граненые стаканы. — Жили-то мы по-походному, — сказал он, словно извиняясь. — Так и не успели обзавестись чем-то более изящным.
Цицианова обвела взглядом комнату, в которой бывала не раз, но как-то не обращала внимания на ее скромное убранство. Две узкие и, видимо, жесткие кровати, по-военному тщательно заправленные, письменный стол у окна, два шкафа с книгами, ковер на полу и во всю стену географическая карта, усеянная маленькими флажками на булавках. Их частая цепь вплотную приблизилась к границе и в нескольких местах, точно прорвав ее, клиньями уходила к Норвегии, в Румынию, в Болгарию.
В комнате царил идеальный порядок. На круглом обеденном столе в вазочке, сделанной из гильзы от авиационной пушки, лиловым светом горела гроздь цветущей глицинии. И точно такая же веточка возле фотографии молодой белозубой женщины. Цициановой казалось, что женщина смотрит на нее и как бы спрашивает, улыбаясь:
— Вы помните меня, тетя Кето?..
«Помню, девочка, помню… Ты была красивая и добрая. И кто знает, может быть, к лучшему, что не дожила до дня, когда принесли сюда казенный конверт с сообщением о том, что твой сын пропал без вести. Как и мой когда-то… Кто знает?..»
Фотография женщины и веточки глицинии были единственным, что нарушало строгое, почти аскетическое убранство комнаты.
Перехватив взгляд Цициановой, летчик сказал:
— Это меня Ива с Ромкой глицинией балуют. Наловчились ее рвать под самой крышей. Впервые Ива вместе с Шурцом за ней лазил. Эх и досталось им тогда от меня!.. А вы знаете, Кетеван Николаевна, встречу с другом моим старым я так нетерпеливо жду по двум причинам. Одно дело — не виделись столько лет, это само собой. Но еще и другое: он ведь в той же дивизии воевал, что и Шурец мой, в разных полках, правда, да ведь авиационная дивизия не чета стрелковой, народу в ней немного, все на виду. А Шурца он, ясное дело, как мог опекал… Вот жду, что расскажет, только в то и поверю…
Друг летчика был высок ростом и худ. Тяжело опираясь на палку, он поднялся по лестнице и, выйдя на террасу, остановился. Долго и молча смотрел на сидящего в кресле капитана Пинчука.
— Ну, здравствуй, Гриша, — сказал тот. — Чего молчишь-то?
Отбросив палку, гость широко шагнул, обнял летчика за плечи, прижался щекой к его щеке.
Никого из соседей на террасе не было. Все понимали, что не надо в такой момент мешать людям, смущать их своим присутствием; можно посидеть несколько минут в своих комнатах, ничего не случится. И только Никс, приподняв оконную занавеску, смотрел, как замерли, обнявшись, два совсем еще не старых, но уже седых человека.
Стол Цицианова накрыла сама еще до прихода гостя. Крахмальная скатерть с вензелем, с такими же вензелями тарелки и тяжелые серебряные вилки. Два бокала из настоящей баккара и отливающий голубизной хрустальный графин.
— Все на две персоны, — сказала она. — Я берегу это. Как бы туго ни пришлось мне, а это останется. И знаете почему?.. Когда вернется мой сын, а он обязательно вернется, я должна буду вот так же накрыть стол. На две персоны, понимаете?..
Летчик смотрел на нее. Она стояла прямая и торжественная. И слова ее звучали так, будто она не просто говорила, а повторяла молитву.
— Спасибо вам, Кетеван Николаевна…
Итак, стол был накрыт на две персоны. Сказочно красивый стол! Посредине стояла вазочка, сработанная из медной артиллерийской гильзы. Ее не смущало соседство изящного баккара и фамильного серебра князей Цициановых. Гильза тоже знала себе дену. Ведь она была последней овеществленной памятью о самолете капитана Пинчука, рухнувшем когда-то на заснеженные финские сосны.
И Кетеван Цицианова, без расспросов поняв это, поставила гильзу на середину стола…
— Ты как никто другой поймешь меня, Паша, — с горечью говорил летчику гость. — Нелегко слышать такие слова: отлетался, все, спасибо за службу!.. Сколько я этих комиссий прошел, и все без толку. Чуть было совсем не списали в запас. Говорю им: да я еще летать могу не хуже, чем демон крылатый, вы что, братцы?! Без ног люди летают! Воропаев есть такой, Миша, он еще в сорок втором здесь вот, на Кавказе, глаз потерял, и ничего, дает фрицам прикурить. А мне в ответ майор один с гадюками на погонах: сейчас, мол, не сорок второй год, летного состава у нас достаточно. Понял, а?.. Я ему говорю: «Летчик летчику рознь! Да я с Халхин-Гола воюю без передыха, у меня семь орденов на груди, восемнадцать «мессеров» лично в землю воткнул! Таких летчиков никогда в достатке быть не может, понятно тебе, майор?!» Нескромно, да? А что поделать? Так хоть в училище направили, теорию пока буду преподавать, ну а что дальше, поглядим еще. Я своего не долетал…