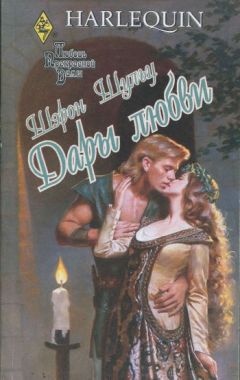— Построить новую Европу вокруг Германии! Это грандиозная идея Гитлера! Маршал понял: Франция выиграет от этого. Суверенность европейских границ — устарелое понятие. Долой границы, которые порождают войны! Освободить русский народ…
“Курск и Харьков освобождены, полный разгром под Сталинградом. Вот и приходится изворачиваться немецкой пропаганде”.
И не одернешь этого типа — час еще не пробил. Он единым духом выпил остывший кофе, достал из кармана деньги и хотел было окликнуть гарсона, но замер на месте — коммерсант спросил многозначительно:
— Кстати, о русских. Вы знаете, что этот, которого разыскивает полиция, имел соучастника?
Не дожидаясь ответа, он поспешил похвастать своей осведомленностью:
— Такой же, как и мы, коммерсант, парижанин… А знаете, откуда я это взял? Сын моих соседей, с верхнего этажа, служит в полиции. Чудесный парень! Умный, отчаянный, один из участников облавы на Кур Саблон. Он сообщил о своих подозрениях гестапо, и парижанин выложил все. Когда таких субъектов прижмешь к стенке, у них быстро развязываются языки. Вот увидите, русскому долго не продержаться Жаль, что есть еще французы…
Какой-то посетитель с огромной кожаной сумкой через плечо, — очевидно, водопроводчик — резко повернулся и как бы ненароком толкнул коллаборациониста в бок локтем. Тот не удержался и клюнул носом мраморную стойку.
Радость охватила Андре. “Наш человек, у него тоже руки чешутся. Таких надо держать на примете: они очень скоро понадобятся”, — подумал он, прислушиваясь к извинениям водопроводчика.
— Ох! Извините, ради бога! Мы-то с вами французы и поймем друг друга правильно.
Прежде чем говорун успел напустить на себя снова таинственный вид и с апломбом заговорить, водопроводчик, улыбаясь, вышел из кафе. Андре расплатился и двинулся за ним следом.
На улице разгулялась настоящая февральская метель. Он втянул голову в плечи и зашагал сквозь белую пелену плотного снежного ветра. Снежинки — холодные осы, пахнущие русским морозом, жалили непривычное к холоду лицо, но Андре не ощущал их жгучего прикосновения: он думал о своей любви, о поведении Анриетты, о людях, которые плели против него сети, не видя его и не зная, о человеке, с отчаянной решимостью уничтожавшего бошей и как бы подтолкнувшего их организацию к решительным действиям.
Он свернул на улицу Монкальм. Белым привидением вынырнул из пурги облепленный снегом прохожий и, увидев Андре, проговорил:
— Что за проклятая погода!
Погода проклятая, точно. Зима, конечно, не такая, как в России, но немцы все равно и носа на улицу не кажут. Андре зашел в подворотню недостроенного дома: хотел лично убедиться, что Кола и его ершистый друг доставлены и что они не привезли за собой “хвоста”. Кроме того, он рассчитывал забрать группу охраны для операции посложней операции “Россия”.
Каким-то особым чутьем он чувствовал, что три–четыре лишних автомата и отчаянные парни им очень понадобятся.
В девятом часу, при открытии магазина, Мари-Те была начеку — дежурила у Галери де Жод. Как и условились, она должна оставаться с русским до тех пор, пока не появится возможность передать его участникам Сопротивления.
Во время погрузки машины — она придет в одиннадцать часов — русский в комбинезоне грузчика будет помогать носить мебель на нижний этаж, к служебному выходу. В нужный момент он исчезнет. В сквере “Нептун” его должен ждать Жюль Грак. Даже если гестапо установило наблюдение за магазином — все допускали такую возможность, — практически риск был небольшим.
Когда Мари-Те в сопровождении энергичной продавщицы — Жюль от нее просто в восторге — прошла на склад, действительность разочаровала ее. Девушка рисовала в воображении волнующую н драматическую сцену: сдержанная встреча двух мужественных людей, испытанных бойцов на глазах у восторженных работников прилавка.
Она даже растерялась в сумрачном лесу шкафов, столов, буфетов, этажерок, ночных столиков, стульев. К ней несмело приблизился изможденный, худой человек с давно не мытыми волосами и всклокоченной бородой. Чужая железнодорожная униформа делала его похожим на персонаж из комической оперетты.
Он что-то сказал ей по-русски; они взглянули друг на друга и растерялись, он поднял брови и едва заметно шевельнул плечом, а она отрицательно покачала головой. Потом он спросил:
— Sprechen Sie deutsch?
Не задумываясь, Мари-Те ответила:
— Naturlich!
Прошло несколько секунд, прежде чем она поняла: между ними брошен мост. Они могут понимать друг друга! Язык врага — единственный язык, понятный обоим. Воскрешение из мертвых для русского: на протяжении многих дней ему не удавалось и словом перекинуться с живым человеком.
И целый час он торопливо, хотя немецкий язык и не приспособлен для скороговорок, рассказывал ей о своих мытарствах, начиная от плена и кончая встречей с ними на ступеньках в магазине. Он говорил как человек, у которого долго было тяжело на сердце и который может, наконец, доверить свою тайну товарищу по оружию…
Они сидели в плетеных креслах. Мари-Те спросила Ворогина:
— А как вам удалось избежать облавы?
И он снова заговорил, а она молча вслушивалась в грубый, лающий язык, облагороженный славянскими интонациями:
— Наступила ночь. Я спрятался в кузове грузовика, а как раз напротив остановилась легковая машина. За рулем сидел офицер. Прежде чем он пришел в себя, я уселся рядом с револьвером в руке. Квартал оцепили. Любой ценой надо было выскочить из этого огненного кольца. Мне-то все равно терять нечего, погибать — так с музыкой! Но и на этот раз удача не обошла меня — проскочили. Офицер не хотел заводить машину в гараж, а когда все-таки решился, понадеялся на то, что я только оглушу его…
— А почему вы не взяли его оружия?
— Всего не предусмотришь. Точно так же мне и в голову не пришло взять в вагоне еду, хотя продуктов там было больше чем предостаточно… Знаете, я до сих пор не убил ни одного человека!
— Это, наверное, ужасно… Я имею в виду того офицера, которого вы… у которого вы забрали пистолет.
— Нет. Я вырвался из ада, из Треблинки, каждый день в вагоне мог быть моим последним днем. А потом — в чужой стране, где надежным другом могло быть только оружие. Я ведь не подозревал, куда меня забросит судьба. На офицера я наткнулся совершенно случайно.
— Я понимаю. Другого выхода у вас не было, а на станции полно бошей.
— Разумеется. Состав стоял на запасном пути, в кромешной темноте. Офицер направлялся к мостику, переброшенному через железнодорожную линию. Он торопился, по-видимому, только что отдежурил и возвращался назад…
Открылись двери, и вошел служащий магазина с пакетом в руках. Это передали для Сергея рубашку, свитер, рабочий комбинезон и берет, бритвенный прибор.
Пока Сергей с наслаждением, как ребенок радуясь праздничной мыльной пене, брился перед зеркалом шкафа, Мари-Те размышляла о том, как ей поделикатней рассказать обо всем отцу. А с ним надо обязательно поговорить. Сначала предупредить, что она связана с движением Сопротивления, попросить его не ходить на концерт, который устраивают немцы. Почувствовав на себе пристальный взгляд, Мари-Те подняла голову. Сергей Ворогин с мыльной пеной на щеках и подбородке внимательно смотрел на нее, не выпуская из рук бритву.
Какие у него глаза! Выразительные, острые. Слегка утомленные, очень грустные, суровые и в то же время подернутые чуть заметной усмешкой. Глаза человека, много перестрадавшего, но не впавшего в отчаяние…
Он взглянул в зеркало и проговорил, обращаясь к ней:
— Фашизм похож на кривое зеркало. Все, что оно отражает, становится мерзким. Он такая же болезнь, как чума или холера, и все прекраснейшие мысли, благороднейшие чувства и мечты становятся при фашизме никчемными и безумными. И это страшная болезнь — она превращает в грязную накипь самое святое в человеке. Но страшнее всего, что больные сохраняют поразительную ясность мысли! Здравый смысл — на службе у безумия. Рафинированный садизм. Даже музыка призвана на службу, как новобранец призывного возраста.
— Например, Вагнер? — отозвалась Мари-Те.
Его насторожил ее тон — воинственный и непримиримый. Сергей уселся напротив и задумчиво взглянул на нее.
— Вы не любите Вагнера. Он для вас только немец. Но разве вы больше не признаете трехцветное знамя национальной эмблемой только потому, что петеновское правительство загрязнило его? Гитлер, безусловно, использует музыку Вагнера, а точнее, нацизм взял на вооружение его мистику сверхчеловека. По-вашему, этого достаточно, чтобы опорочить Вагнера? Надо отбрасывать его идеологию, но нельзя не признать величия Вагнера, его гения. В мире нег более величественной поэмы о любви, воплощенной в музыке, чем его “Тристан”. Я люблю Вагнера. Я умею его любить. Любить сознательно, трезво.