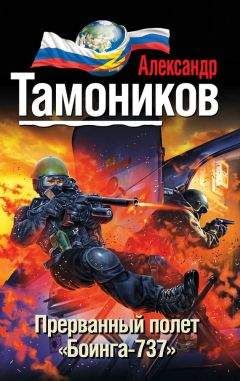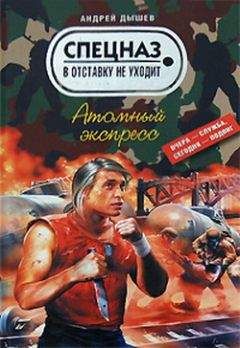— Андрюха! Надо же, свиделись! Кто ж тогда в поезде мог подумать? Эх, Андрюха, зря мы тогда с тобой мало самогона выпили! — он, смеясь, покосился на Барсегяна.
Барсегян улыбнулся, правильно восприняв шутку.
— Знакомьтесь.
Он посмотрел на Андрея и Дирижера, который первым подал руку:
— Вавилкин Дмитрий — Дирижер.
— Ласточкин Андрей — Птица.
Барсегян махнул рукой в сторону крепости:
— Пошли в хату.
Войдя в комнату, они уселись на табуретки и кровать. Барсегян вслух прочитал рапорт Андрея.
— Нормально написал. — Он сунул листки в картонную папку. Похлопав папкой по ладони, сказал: — Это пятый погибший из роты, раненых, контуженых и с повреждением здоровья четырнадцать. — Он положил папку в тумбочку и посмотрел на Андрея. — Казнишься?
Андрей молчал.
— Казнись. Хоть и вины твоей никакой в этом нет, а казниться надо! Чтобы каждый погибший и здоровье потерявший пацан на душе рубцом остался. Только казнись до такой степени, чтобы не размокнуть в собственных соплях! Чтоб командовать смог! Они, — он обвел взглядом сидящих, — тоже казнятся и за своих, и за чужих, потому что мы командиры и сами себе работу такую выбрали — пацанов от матерей получать, учить и воевать с ними вместе. Это не спички жечь — сгорела и забыл! — Он прошелся по комнате. — Это не все. Сегодня утром начальник штаба майор Шарафутдинов приезжал, из отпуска вернулся. Довольный, в Крыму отдыхал. Он говорит, что нам на этих позициях придется еще постоять, потому что операция масштабная скоро планируется. Кишлак этот от духов очищать будут. Там, по сведениям разведки, целое духовское соединение окопалось. Серьезная работа предстоит, кишлак большой, почти город. Кроме наших батальонов, из полка, десантура подойдет и вертушки помогать будут. Говорит, возможно, часть нашей роты задействуют.
— А как же мы тогда дорогу охранять будем? — спросил Дирижер.
— Колонны на время операции в обход ходить будут, по трассе. Так что готовьтесь с учетом новой вводной. Ясно?
— Ясно, — одновременно ответили командиры взводов.
— Тогда все. По позициям, — Барсегян дал понять, что разговор окончен. — Хотя посидите минуту, я сейчас. — Он вышел из комнаты.
— Сейчас еще нам учебную тревогу организует! — засмеялся Блинов.
— Ага, по эвакуации колонны тараканов из зоны военных действий! — тоже смеялся Бочок.
Барсегян вернулся через несколько минут. В руке он держал плотно закрытый котелок. Поставив его на тумбочку, он серьезно сказал:
— Считаю причину уважительной. Кружки в тумбочке. Доставайте. — Он снял крышку с котелка.
— О, чую запах знакомый! — Бочок потянул носом. — Братухино мастерство не спутаешь!
Барсегян плеснул каждому в кружку граммов по пятьдесят.
— Давайте, не чокаясь. Чтоб земля бойцу нашему Ване Рощупкину и тому парню с вертолета стала пухом.
Они выпили молча, поставили кружки назад в тумбочку и, попрощавшись с Барсегяном, вышли. За воротами крепости их ждали бэтээры.
— Рады были тебя видеть, Андрюха, — прощаясь, сказал Блинов от имени других.
— Знать бы тогда, — встрял Бочок, — что ты тоже к нам, мы с тобой вместе через Термез поехали бы. Гульнули бы в Термезе денек-другой! А на Барсегяна не обижайся. Он мужик справедливый, наорет иногда, но человек душевный и за солдатиков страшно переживает. Он в прошлом году весь свой отпуск потратил на то, чтобы объехать по стране родственников всех четверых погибших из нашей роты ребят. Никому об этом не сказал. А узнали, когда на имя командира полка стали письма от матерей приходить с благодарностью, что их не забыли, что они знают теперь, как погибли их сыновья. Ведь в военкоматах им ничего толком не рассказывали. Казалось бы, и хорошо он сделал. Но тут особисты взъелись, мол, мы здесь официально никаких боевых действий не ведем, мол, это тайна военная. Охренели, козлы! Какая тайна? Гробы в Союз только успевают отправлять, вся страна знает, а им все тайна! Заставили писать объяснительную. Ну, он и написал им, что родственники должны знать и гордиться, что их сыновья пали в бою за Родину, а на их режим секретности он срал с высокого забора.
— Так и написал? — переспросил Андрей.
— Так и написал! — подтвердил Блинов. — Его заставляли переписать, а он не стал, сказал, что дуракам так понятнее.
Распрощавшись, они разъехались по своим взводам.
Прошло два дня. Служба на позициях шла своим порядком.
С утра трое бойцов стояли в окопах, а свободные от службы стирали обмундирование, развешивая его на броне бэтээра. Жаркое солнце и нагретая броня быстро делали его сухим. Некоторые писали письма, рассматривали фотографии, на которых были родственники, невесты и школьные друзья. Все вроде бы возвращалось в нормальное русло, но тишина на позиции была непривычной. Не хватало балагурства Артиста. Шестак, в одних трусах, с надвинутой на лицо панамой, загорал, лежа за блиндажом. Рядом стояли его сапоги с развешанными на голенищах портянками.
Андрей зашел в блиндаж, взял из тумбочки томик со стихами, которые ему никак не удавалось читать, и пошел к бэтээру. Он забрался в капонир, прилег на землю в тени бэтээра и приступил к чтению. Читал медленно, иногда перечитывая четверостишия, глубже вдумываясь в их смысл. Периодически он откладывал стихи в сторону и курил, задумчиво стряхивая пепел под колесо. Он лежал на животе, подложив кулаки под подбородок, и наблюдал за большим желтым скорпионом, который гонялся за черным жучком, вероятно, желая отобедать. Андрею стало жалко жучка, и он книжкой отбросил скорпиона в сторону. Тот, высоко задрав свой длинный хвост с мешком яда и иглой на его конце, еще немного побегал рядом с книжкой, ткнул ее несколько раз иглой и убежал в норку под камень. Андрей перевернулся на спину и, подложив панаму под бритую голову, задремал. Проснувшись, он вылез из капонира, отряхнулся от пыли и пошел к блиндажу.
Шестак с бойцами сидели под навесом и слушали радиоприемник. Из динамика доносился голос Аллы Пугачевой: «…меня узнайте вы, маэстро. Я в восьмом ряду, все тот же ряд и то же место…»
— Сколько песен новых появилось, пока мы в армии, — сказал боец с подменного бэтээра.
— Ничего, мужики, вернетесь по домам, пластинок накупите и наслушаетесь. — Андрей присел на лавку, положив книжку рядом.
— Читали? — поинтересовался Шестак.
— Читал, — кивнул Андрей.
— Мы, товарищ старший лейтенант, извиняемся, в ваше отсутствие тоже эту книжку читали.
— Да на здоровье. Кому надо, берите, читайте. Понравились стихи?
Шестак пожал плечами.
— В общем, понравились. Только читаются трудно. Вроде бы и о понятных вещах написано — о женщинах, о вине, о смысле жизни, но складу в них мало. Вот у Пушкина стихи легко читать.
— Да, — поддакнул кто-то, — четыре строчки прочтешь, и по новой их читай. Доходит туго, или мы, видать, отупели тут от жары.
Андрей усмехнулся.
— Нет, не отупели. Я тоже перечитываю их по нескольку раз. Хайям представитель восточной культуры, с другими традициями, другим образом жизни. Сразу этого не охватишь. Надо, наверное, пожить на Востоке, изучить его, тогда наверняка станет понятнее.
— Так мы ведь и живем сейчас на Востоке.
— Нет, мужики, мы живем в восточном климате, среди восточного ландшафта, но не более того. Изучить культуру через прицел невозможно, но не наша в том вина. Вы к Мамаджонову обращайтесь, он человек восточный, он вам и растолкует, что непонятно.
Мамаджонов сразу оживился:
— Правда, правда, я говорю им — кто так читает? Две строчки прочитал — бросил! Думать надо, понимать надо! Это не ваш песня — степь да степь кругом, холодно — ямщик замерз! Сухов кино тоже говорит: Восток — дело тонкое! О! Не лезь, Петруха, под паранджа — живой будешь!
— Нет, погоди, Джин! Наша культура не хуже! — вступил в спор рядовой Рябов, которого Андрей про себя прозвал молчуном.
Рябов был низкорослый крепыш. Из-под массивных надбровных дуг на его лице, казалось, сразу выступал мощный, выдвинутый вперед подбородок, а между ними как бы незаметно находились небольшой нос картошкой и тонкие губы, обычно плотно сжатые. От этого Рябов имел угрюмый вид, к тому же сам по себе был неразговорчив и нелюдим. Он мог часами молча лежать на нарах в блиндаже, не принимая участия в разговорах, и просто смотреть в потолок. Но потом ни с того ни с сего, вскочив с нар и выбежав из блиндажа, пробежать несколько кругов вокруг позиции, а вернувшись, опять завалиться на нары, скупо прокомментировав свой вояж: «Тело затекло», и снова надолго отдаться этому приятному занятию. Когда Рябов, от случая к случаю, хриплым низким голосом награждал присутствующих какой-либо репликой, то выражение его лица оставалось неизменно серьезным, без лишних эмоций.
Все замолкли, очевидно, не желая пропустить редкой удачи послушать товарища.