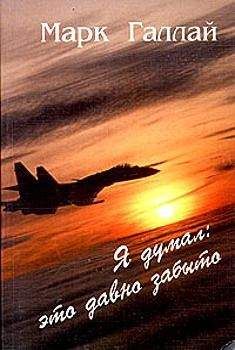До земли было уже совсем недалеко, когда это напряжённое единоборство закончилось победой Анохина а ему удалось вырваться наружу.
И тут — новое дело! — не оказалось на месте, в кармашке у левого плеча, парашютного кольца — выкрашенной в яркую красную краску скобы, за которую надо дёрнуть, чтобы раскрыть парашют.
Во время дикой свистопляски в кабине беспорядочно падающего самолёта кольцо, по-видимому, выпало из своего кармашка и болталось на тросике где-то возле него.
И Анохин сумел, ничего не видя, нащупать это не ко времени затерявшееся кольцо, выдернуть его и раскрыть парашют.
Все дальнейшее — приземление в болото, возвращение на аэродром, длительное лечение в госпитале — было по сравнению с только что пережитым если не легче, то, во всяком случае, обычнее. Но одного глаза в результате этой аварии Анохин все-таки лишился…
Он остался в живых исключительно благодаря собственной выдержке, хладнокровию, квалификации мастера парашютизма, даже физической силе. Все это бесспорно. Но я усматриваю в случившемся и другую, не менее важную сторону.
Штырек механического указателя положения шасси честно сигнализировал о «третьем звонке» перед разрушением крыла — его опасных остаточных деформациях, возникших ещё в предыдущем полёте. И однако, столь очевидный сигнал остался непонятым и не принятым во внимание.
Это вообще бывает чаще, чем принято думать, что машина перед тем, как «взбрыкнуть», предупреждает людей о своём недобром намерении. Но предупреждает почти всегда еле слышно, как бы шёпотом. Надо иметь тонкий, изощрённый слух, чтобы услышать её.
Здесь же машина не шептала, а, можно сказать, громко, в голос кричала о своей неисправности. Почему этот голос не был услышан? Думаю, что не по недостатку квалификации руководителей работы, а прежде всего под гипнотическим воздействием пресловутого «давай, давай!».
Знания, те самые знания, которые, как мы установили, должны сопутствовать смелости, подкреплять, а порой и подменять её, на сей раз своей миссии не выполнили.
* * *
Одним из сильнейших элементов воздействия на психику лётчика, едва ли не самым серьёзным испытанием его волевых качеств принято считать так называемую оторванность от людей и всего земного, одиночество человека в трудной обстановке полёта.
При подготовке первой группы космонавтов к орбитальным полётам вокруг Земли им всем пришлось даже пройти через специальное испытание в сурдокамере — наглухо закрытом, звуконепроницаемом, полностью изолированном от внешнего мира помещении, в котором испытуемые жили в течение полутора-двух недель. Предполагалось, что реакция на длительное одиночество позволит судить о психической устойчивости космонавта.
Не берусь судить, как для космонавтов, но применительно к пилотам, летающим в пределах атмосферы, сила влияния «оторванности от всего земного» кажется мне несколько преувеличенной.
Особенно после внедрения двусторонней радиосвязи.
Радио дошло непосредственно до лётчика уже при жизни нашего авиационного поколения и — не будем скрывать — поначалу было принято летающей братией без особого энтузиазма. Причиной тому послужил не один только присущий грешному человеку консерватизм; первые образцы бортового радиооборудования были действительно чрезвычайно неудобны, чтобы не сказать — мучительны. Жёсткие чашки вмонтированных в шлем телефонов (эту комбинацию так и назвали «шлемофон») больно давили на уши. Плоские бочонки ларингофонов, плотно прижатые на резинке к шее, — иначе сколько-нибудь внятная передача была невозможна, — вызывали непроизвольные ассоциации с казнью через повешение. Шум, треск и помехи передаче и приёму были таковы, что первые радиопереговоры в воздухе напоминали классическое собеседование двух полуглухих старух:
— Здорово, кума!
— Купила петуха…
Впрочем, удивляться этому не приходится: дело было, что ни говорите, очень новое. Удивительно скорее другое: всего через несколько лет полёты без надёжной двусторонней радиосвязи стали представляться каким-то диким, немыслимым анахронизмом.
Медовый месяц непосредственного общения лётчиков с радиотехникой привёл (как и положено всякому медовому месяцу) даже к некоторым излишествам. Руководители полётов, стоя на старте с микрофоном в руках, сначала стали давать лётчикам на борт информацию о ветре и обстановке на аэродроме (что заслуживало безоговорочного одобрения), затем начали указывать на видимые с земли — или предполагаемые — ошибки пилотирования (что уже следовало делать далеко не всегда и во всяком случае, с большой осторожностью), и, наконец, некоторые из них, войдя во вкус, перешли к непрерывному словесному аккомпанементу под руку лётчику. В эфире только и стало слышно:
— Доверни влево!
— Доверии вправо!
— Подтяни!
— Выравнивай!
— Убери газ!
— Отпусти!
— Тяни!
— Низко!
— Высоко! — и многое другое, порой весьма колоритное.
Но прошёл медовый месяц — прошло и чрезмерное увлечение радио как модной новинкой на старте. Руководители полётов научились эффективно и экономно использовать его. Научились пользоваться им и лётчики.
Впрочем, на этом устремления к радиоизлишествам не закончились. Нашлись вскоре такие сверхэнтузиасты радиосвязи, которые решили потребовать от лётчика-испытателя чего-то вроде непрерывного репортажа о ходе испытания. Они понимали, конечно, что руки и ноги лётчика в полёте заняты управлением машиной, допускали с известными оговорками, что чем-то занята в это время и его голова. Но язык! Язык лётчика находится во время полёта в состоянии почти полного возмутительного бездействия. Так вот — пусть поработает и он.
Я заметил, что подобный, как говорят специалисты по автоматическому регулированию, заброс случается очень часто после того, как какое-нибудь техническое устройство, изобретение, теория, а подчас и целая отрасль науки в течение некоторого времени незаслуженно пребывают в загоне и подвергаются необоснованным нападкам. Вырвавшись из подобного угнетённого состояния и заняв своё законное место под солнцем, объект недавних поношений устами своих апологетов стремится взять реванш. А для этого — всячески гиперболизировать своё значение и объявить себя некоей универсальной наукой наук, способной (по крайней мере в принципе) решить любую, сколько угодно сложную задачу.
Впрочем, жизнь корректирует эти забросы, и даже быстрее, чем многие иные.
Один наш лётчик-испытатель, к которому обратились с просьбой выдавать в очередном полёте такую непрерывную радиоинформацию, спросил:
— Вы меня случайно не спутали с другим товарищем? С Синявским, например?
И конечно, он был прав.
Знаменитому в те годы, одному из первых, если не первому нашему спортивному радиокомментатору Вадиму Синявскому и впрямь было легче: ведя репортаж, он в то же время не играл в футбол сам…
В заключение приведу одно, с моей точки зрения, исключительно интересное высказывание о месте радио на борту самолёта, принадлежащее человеку, в данном вопросе более чем просто авторитетному.
Через много лет после окончания войны я спросил у одного из лучших наших асов, сбившего едва ли не рекордное количество вражеских самолётов, Григория Андреевича Речкалова, что он больше всего ценит в самолёте «Аэрокобра», на котором одержал столько побед: скорость, мощь пушечного залпа, обзор из кабины, надёжность мотора?
Речкалов сказал, что, конечно, все перечисленное мной — вещи очень важные. Но главное все-таки… радио.
— То есть как так радио? — удивился я.
— Вот так. На этой машине была отличная, редкая по тем временам радиосвязь. Мы в группе разговаривали между собой в воздухе, как по телефону. Кто что увидел — сразу все знают. Поэтому никаких неожиданностей не бывало, — разъяснил Григорий Андреевич.
А цену неожиданности в полёте — боевом, испытательном, каком угодно — каждый лётчик понимает прекрасно. Хуже этого, пожалуй, не придумаешь ничего.
* * *
Трудно переоценить изменения, которые принесло радио в саму обстановку любого (не только испытательного) полёта! Конечно, и до этого лётчик понимал, что в его полёте воплощён труд множества незримо сопутствующих ему людей: от конструкторов и изготовителей самолёта до механиков, готовивших машину к вылету, и инженеров и учёных, участвовавших в разработке методики испытания. Но эти бесспорные обстоятельства воспринимались несколько абстрактно, так сказать, от головы. Чисто физически, а значит, и эмоционально лётчик все-таки чувствовал себя в полёте несколько оторванно от земли и всего на ней оставшегося. Пресловутое одиночество хотя и не в очень острой степени, но все же ощущалось. Особенно в полёте за облаками, когда реальны только их сверкающая поверхность, голубой у горизонта и фиолетово-чёрный в зените купол неба да торчащие «в ничего» крылья собственной машины. Чтобы продолжать верить в обитаемость мира в такой обстановке, требуется некоторое усилие.