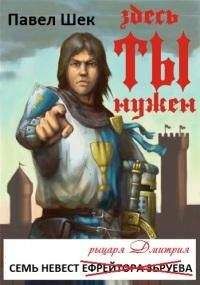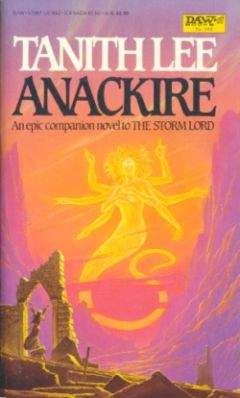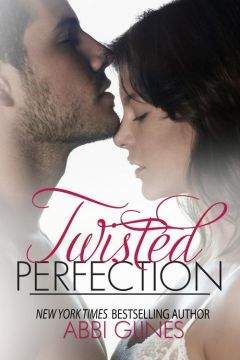Цадо погрузился в эту таинственную атмосферу, пока Паничек внезапно не толкнул его и спросил: - Почему ты не пьешь? Ну, давай, пей! Не каждый день у нас есть шнапс и музыка!
- ... когда самый любимый мною овладел..., - произнес один из мужчин. Цадо по голосу узнал Клауса Тимма, Тимм, он думал. Этого он не упустит. Это для Тимма что-то значит. Джин и ладан, и Иисус на кресте, в мерцании «светильника Гинденбурга», и при этом «... когда самый любимый мною овладел».
Мы все сентиментальны, думал он. Мы как старые девы, когда это охватывает нас. Мы больше не мужчины. Сентиментальные мочалки, совершенные в убийстве и в профессиональном закладывании мин. И каждый пустяк заставляет нас выть. Мы все вместе отдали бы свое содержимое для музея, в котором немцы двадцатого столетия будут выставлены напоказ для будущих поколений. Русские атаковали бы еще сегодня без артиллерии и танков, если бы они знали, кто прячется под нашими мундирами.
Орган внезапно замолк, и голос Мозека закричал с эмпоры на тягучем, приветливом диалекте рейнских земель: - Принесите мне немного шнапса, ребята!
Они принесли ему шнапс, а также и другому, который давил на мехи. Они зажгли ему сигарету и воткнули ее ему между губ. Они были прекрасными товарищами, так как это был шнапс из их шнапса, и это была сигарета из их сигарет. Они сидели там и подпевали, и если он играл что-то веселое, их лица светлели, и они улыбались друг другу и хлопали себя по бедрам. Мозек играл «Анну Марианну», и внезапно Клаус Тимм громко закричал: - Сыграй что-то лихое, не это старье! Но один из других солдат тут же потребовал: - Играй дальше! Это моя любимая песня! Цадо снова пил. Он замечал, как джин медленно вставлял ему в голову. Вот проклятое пойло, подумал он. Завтра у меня будет голова раскалываться. Лучше бы я попросил у пьяницы бутылку «болса».
Он заметил, что шнапс поднял его настроение, и сказал Паничеку, ухмыляясь: - Если он заиграет теперь «Германия, Германия превыше всего», что они сделают тогда? Встанут и поднимут руку или станут на колени и прижмут руку к груди?
Богатырь добродушно рассмеялся и чокнулся своей бутылкой с бутылкой Цадо. При этом он пробурчал: - Вот таким ты мне нравишься, Цадо!
Цадо точно больше не знал, сколько песен сыграл Мозек, когда дверь ризницы открылась, и один из солдат вышел с требником в руке. В другой руке он держал второй «светильник Гинденбурга».
- Никакого вина больше нет, - сообщил он другим, - господин священник забрал его с собой. Он оставил нам только Библию. Он присел на корточки к другим и листал книгу. И орган продолжал звучать, и звезды мерцали там, где крыша была пробита.
- Эта Библия, - сказал солдат, подняв указательный палец, - в ней что-то есть! Он раздавил свою сигарету на дорожке и начал читать.
- Теперь он еще прочтет нам мессу..., - проворчал Цадо. Он выпил много джина и привык к церкви и к органу, к аромату ладана и фигуре Христа.
- Это - книга рода человеческого, - читал солдат с поднятым пальцем, - ибо когда Бог создал человека, он сделал его по образу и подобию Бога. И он создал их, мужчину и женщину, и благословил их, и назвал его именем человека, в то время, когда они были созданы. И Адаму было сто тридцать лет, и он родил сына, подобного себе, и назвал его Сифом. И прожил после этого еще восемьсот лет и породил сыновей и дочерей. И было ему девятьсот тридцать лет, когда он умер. Сифу было сто пять лет, и он породил Еноха...
Один из мужчин рассмеялся громко, и читающий прервался.
- Сто пять лет и породил Еноха, - рокотал Тимм, - представьте себе, что он делал, когда ему было тридцать лет. Или двадцать пять! Вот это были времена!
- Там у них всех было по семь жен..., - произнес другой, - я где-то об этом читал. У всех евреев было по семь жен. И тогда кроме евреев не было других людей на свете. Это вы могли бы себе представить?
- Эта библия хороша, - сказал читавший, - я заберу ее с собой. Она почти так же интересна, как роман за тридцать пфеннигов Он снова углубился в книгу, а другие начали приглушенно беседовать о борделе в Амстердаме, о котором они все еще помнили, потому что там была комната с киноустановкой. С восемью кроватями и киноустановкой и экраном в торце помещения.
- Послушай-ка, - обратился Паничек к Цадо, - хочешь заработать себе бутылку шнапса?
Цадо посмотрел свысока и ответил: - У меня есть еще в моем багаже шнапс лучше, чем у тебя.
- Но все же, - настаивал другой, - шнапс никогда не бывает лишним. Так ты хочешь?
- И что?
- Ты должен написать для меня кое-что и получишь бутылку шнапса. Хорошего немецкого шнапса.
Паничек иногда обращался к кому-то из других солдат, если ему нужно было что-то написать. Просьбу об отпуске, донесение, или тогда, когда Цадо помог ему, указание домой, что какой-то Янек Стрелецкий должен освободить комнату Паничека от мебели, продать все и послать ему деньги. Паничек не умел писать, он этому никогда не учился.
- И что я должен тебе написать? - спросил Цадо. – Прошение об отпуске?
- Нет. Не прошение об отпуске. Кое-что другое.
- И что именно?
- Пошли со мной. Или ты хочешь еще послушать музыку.
- Я уже с четверть часа не слышу больше никакой музыки, - сказал Цадо и поднялся, - мои уши до краев полны шнапсом.
Они прошли вдоль центрального прохода, на этот раз не ударяясь, так как их глаза уже привыкли к темноте.
Но они все равно шли медленно, и Мозек начал играть «Лилли Марлен», и они слышали рокочущий голос Клауса Тимма: - … я буду стоять под фонарем. Потом дверь за ними захлопнулась, и их окружила холодная ночь. Они спускались по ступенькам вниз, и музыка тонко звучала за ними.
С фронта катился гром далеких пушек. Деревня лежала в темноте. Шаги хрустели по замерзшей земле. Паничек поднял воротник камуфляжной куртки и сказал. – Тебе не нужно писать много. Совсем чуть-чуть. Одно маленькое письмо. Незнакомой девушке…
- Эх, - произнес Цадо, - ты и незнакомая девушка. Где ты ее подцепил?
Паничек по-дружески положил ему руку на плечо. Он дохнул ему в лицо паром от шнапса и чистосердечно сказал: - Красивая девушка. Слишком красивая для незнакомой. Они принесли мне сегодня посылку от нее. Красивая девушка…
- У тебя есть ее фотография?
- Целых пять штук. Большие фотографии.
- Я с ума сойду, - заметил Цадо. – В самом конце эта война превратится еще и в сватовство.
Паничек показал ему маленькую посылку, когда они пришли в дом, где квартировали. Цадо подтолкнул ящик шнапса пьяного обер-ефрейтора поближе к печи, поставил керосиновую лампу и принес лист чистой бумагу из своего рюкзака. Он уселся на полу и начал писать. У него был хороший почерк, и он умел писать письма. Паничек показал ему все, что было в посылке, и дал прочитать, что написала ему девушка. Он принес бутылку шнапса, потом еще одну, полупустую, и уселся рядом с Цадо. Он положил ему пачку сигарет и снял шапку, как будто это был праздник.
В посылке были две пары носков и три носовых платка, сигареты, которые лежали перед Цадо, плитка удивительно хорошего шоколада и зеленовато-желтая узорчатая шелковая шаль. Девушка написала длинное письмо, и она рассказывала неизвестному получателю, что у нее одежда из того самого материала, из которого была сделана шаль. Ее отец послал этот материал из Франции. Он - ведущий служащий фирмы «ИГ-Фарбен» во Франкфурте, и он часто путешествует за границу.
- Где это, Франкфурт? - спросил Паничек.
- На Майне, - пояснил Цадо и продолжал читать.
- Ага, на Майне. Паничек кивнул.
Девушка писала, что ей семнадцать лет и что она готовится к аттестату зрелости. Она настолько сильно переживала все действия солдат, что она рассматривала как свое личное желание доставлять время от времени как минимум одному из них радость. Она пригласила бы его также на время отпуска, так как у них гостеприимный дом, и ее школьные подруги удивились бы, если бы однажды к ней прибыл в гости солдат, и она пошла бы с ним гулять. Есть ли у получателя орден? Кто он вообще? Он должен непременно ей написать, и он должен пожелать себе что-то к Рождеству, тогда она приобретет это для него. И блондин ли он?
- Иисус, Мария, - ухмыльнулся Цадо, - Тебе повезло, что ты, по крайней мере, блондин!
- У меня и орден тоже есть, - заметил Паничек, помедлив. – Девушка играет на пианино…
- Ты едва ли сможешь сопровождать ее, - сказал Цадо едко. - Но, вероятно, им на своей вилле после войны как-то понадобится щвейцар.
Он рассматривал фотографии. Это были снимки очень юной, но уже удивительно развитой девочку, которая носила хорошую одежду последнего фасона и современную обувь на пробковых подошвах. У нее было ничего не выражающее лицо, но Паничек находил его прекрасным. Особенно на одной фотографии, на которой девушка сидела за пианино, в платье, которое очень сильно обнажало ее плечи.
- Ей не стоит бояться, что ее платье сползет с нее, - проворчал Цадо, - ну, ладно, мы напишем ей письмо, которому она обрадуется!