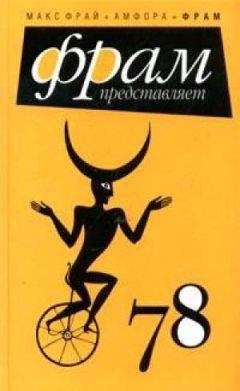Алексей бежал за ней что есть силы, видя перед собой только пестрое пятно ее легкого цветастого платья. Он бежал, чувствуя, как цветы и султанчики щавеля больно хлещут его по босым ногам, как тепло и мягко поддается под ступнями влажная, разогретая солнцем земля. Ему казалось, что для него очень важно догнать Олю, что от этого зависит многое в их будущей жизни, что, наверно, сейчас тут, на цветущем, одуряюще пахнущем лугу, он легко скажет ей все, что до сих пор не хватало духу высказать. Но как только он начинал ее настигать и протягивал к ней руки, девушка делала крутой поворот, как-то по-кошачьи вывертывалась и, рассыпая звонкий смех, убегала в другом направлении.
Она была упряма. Так он ее и не догнал. Она сама свернула с луга на берег и бросилась в золотой горячий песок, вся раскрасневшаяся, с открытым ртом, высоко, часто вздымающейся грудью, жадно вдыхая воздух и смеясь. На цветущем лугу, среди белых звездочек ромашек, он сфотографировал ее. Потом они купались, и он покорно уходил в прибрежный кустарник и отворачивался, пока она переодевалась и выжимала мокрый купальный костюм.
Когда она окликнула его, он увидел ее сидящей на песке, с поджатыми под себя загорелыми ногами, в одном тонком и легком платье, с головой, обмотанной лохматым полотенцем. Расстелив на траве чистую салфетку, прижав ее по углам камешками, она раскладывала на ней содержимое узелка. Они пообедали салатом, холодной рыбой, аккуратно завернутой в промасленную бумагу; было и самодельное печенье. Оля не позабыла даже соли, даже горчицы, которые стояли в маленьких баночках из-под кольдкрема. Было что-то очень милое и трогательное в том, как эта легкая и ясная девушка хозяйничает серьезно и умело. Алексей решил: довольно тянуть. Все. Сегодня вечером он с ней объяснится. Он убедит ее, он докажет ей, что она обязательно должна стать его женой.
Повалявшись на пляже, еще раз выкупавшись и договорившись вечером встретиться у нее, они, усталые и счастливые, медленно пошли к перевозу. Почему-то не было ни катера, ни лодки. Они долго, до хрипоты звали дядю Аркашу. Солнце ложилось уже в степь. Снопы ярко-розовых лучей, скользнув по гребню крутоярья на той стороне, золотили крыши домов городка, пыльные притихшие деревья кроваво сверкали в стеклах окон. Летний вечер был зноен и тих. Но что-то в городке случилось. На улицах, обычно пустынных в такую пору, сновало много народу, проехали два грузовика, набитые людьми, прошла строем небольшая толпа.
«Напился, что ли, дядя Аркаша? — предположил Алексей. — А что, если придется здесь ночевать?»
«С тобой я ничего не боюсь», — сказала она, взглянув на него большими лучистыми глазами.
Он обнял ее и поцеловал, поцеловал в первый и единственный раз. На реке уже глухо постукивали уключины. С того берега двигалась переполненная народом лодка. Теперь с неприязнью посмотрели они на эту приближавшуюся к ним лодку, но почему-то покорно пошли ей навстречу, словно предчувствуя, что она им везет.
Люди молча спрыгивали с лодки на берег. Все были празднично одеты, но лица у них были озабоченны и хмуры. Молча проходили по кладям мимо парочки серьезные торопливые мужчины и взволнованные, заплаканные женщины. Ничего не понимая, молодые люди спрыгнули в лодку, и дядя Аркаша, не глядя на их счастливые лица, сказал:
«Война... Сегодня по радио сообщили, что началась...»
«Война?.. С кем?» — Алексей даже подскочил на скамейке.
«Все с им, проклятым, с германцем, с кем же, — сердито загребая веслами и резко толкая их, ответил дядя Аркаша. — Уже народ по военкоматам пошел... Мобилизация».
Прямо с прогулки, не заходя домой, Алексей зашел в военный комиссариат. С ночным поездом, отошедшим в 0.40, он уже уехал по назначению в свою летную часть, едва успев забежать домой за чемоданом и даже не простившись с Олей.
Они переписывались редко, но не потому, что их симпатии ослабели и они стали забывать друг друга, — нет. Ее писем, написанных круглым ученическим почерком, он ждал нетерпеливо, носил их в кармане и, оставаясь наедине, перечитывал снова и снова. Это их прижимал он к груди и на них смотрел в суровые дни лесных скитаний. Но отношения между молодыми людьми оборвались так внезапно и в такой неопределенной стадии, что в письмах этих они говорили друг с другом, как старые добрые знакомые, как друзья, боясь примешивать к этому что-то большее, что так и осталось невысказанным.
И вот теперь, попав в госпиталь, Алексей с недоумением, возраставшим от письма к письму, замечал, как Оля вдруг пошла сама ему навстречу, как, не стесняясь, говорила она теперь в письмах о своей тоске, жалела, что не вовремя приехал за ними тогда дядя Аркаша, просила, что бы с ним ни случилось, пусть он знает, что есть человек, на которого он может всегда рассчитывать, и чтобы, скитаясь по чужим краям, он знал, что у него есть угол, куда он может, как свой, вернуться с войны. Казалось, писала какая-то новая, другая Оля. Когда он глядел на ее карточку, ему всегда думалось: дунь ветер, и она улетит вместе со своим цветастым платьем, как улетают парашютики семян созревших одуванчиков. Писала же эти письма женщина — хорошая, любящая, тоскующая по любимому и ожидающая его. Это радовало и смущало, радовало помимо воли, а смущало потому, что Алексей считал — он не имеет права на такую любовь и недостоин такой откровенности. Ведь он не нашел в себе силы написать в свое время, что он уже не тот цыгановатый, полный сил юноша, а безногий инвалид, похожий на дядю Аркашу. Не решившись написать правду, боясь убить больную мать, он принужден был теперь обманывать Олю в письмах, запутываясь в этом обмане с каждым днем все больше и больше.
Вот почему письма из Камышина вызывали в нем самые противоречивые чувства: радости и горя, надежды и тревоги; они одновременно и вдохновляли и мучили его. Однажды солгав, он принужден был выдумывать дальше, а врать он не умел, и поэтому его ответы Оле были коротки и сухи.
Легче было писать «метеорологическому сержанту». Это была несложная, но самоотверженная, честная душа. В минуту отчаяния, после операции, чувствуя потребность излить кому-нибудь свое горе, Алексей написал ей большое и мрачное письмо. В ответ получил вскоре тетрадный лист, исписанный витиеватыми буковками, точно бублик тмином, осыпанный восклицательными знаками и украшенный кляксами от слез. Девушка писала, что, если бы не военная дисциплина, она сейчас же все бы бросила и приехала к нему, чтобы ухаживать за ним и делить его горе. Она умоляла больше писать. И столько было в сумбурном письме наивного, полудетского чувства, что Алексею стало грустно, и он бранил себя за то, что, когда эта девушка передавала ему Олины письма, он на ее вопрос назвал Олю своей замужней сестрой. Такого человека нельзя было обманывать. Он честно написал ей о невесте, живущей в Камышине, и о том, что не решился сообщить матери и Оле правду о своем несчастье.
Ответ «метеорологического сержанта» прибыл по тем временам неправдоподобно быстро. Девушка писала, что посылает письмо с одним заехавшим к ним в полк майором, военным корреспондентом, который ухаживал за ней и на которого она, конечно, не обратила внимания, хотя он веселый и интересный. По письму видно, что она огорчена и обижена, хочет сдержаться, хочет — и не может. Пеняя ему за то, что он не сказал ей тогда правды, она просила считать ее своим другом. В конце письма уже не чернилами, а карандашом было приписано, что пусть он, «товарищ старший лейтенант», знает, что она крепкий друг и что если та, из Камышина, ему изменит (она-де знает, как ведут себя женщины там, в тылу), или разлюбит, или убоится его увечья, то пусть он не забывает о «метеорологическом сержанте», только пусть пишет ей всегда одну правду. С письмом передали Алексею тщательно зашитую посылочку. В ней было несколько вышитых носовых платочков из парашютного шелка с его меткой, кисет, на котором был изображен летящий самолет, гребенка, одеколон «Магнолия» и кусок туалетного мыла. Алексей знал, как дороги были девушкам-солдатам все эти вещички в те трудные времена. Знал, что мыло и одеколон, попавшие к ним в каком-нибудь праздничном подарке, сохраняются ими обычно как священные амулеты, напоминающие прежнюю, гражданскую жизнь. Он знал цену этим подаркам, и ему было радостно и неловко, когда он раскладывал их на своей тумбочке.
Теперь, когда он со всей свойственной ему энергией тренировал искалеченные ноги, мечтая вернуть себе возможность летать и воевать, он чувствовал в себе неприятную раздвоенность. Его очень тяготило, что он вынужден лгать и недоговаривать в письмах к Оле, чувство к которой крепло в нем с каждым днем, и откровенничать с девушкой, которую он почти не знал.
Но он дал себе торжественное слово, что, только осуществив свою мечту, вернувшись в строй, восстановив свою работоспособность, он вновь заговорит с Олей о любви. С тем большей фанатичностью стремился он к этой своей цели.