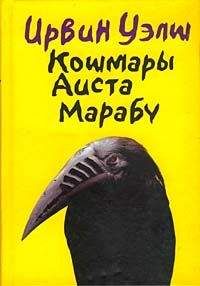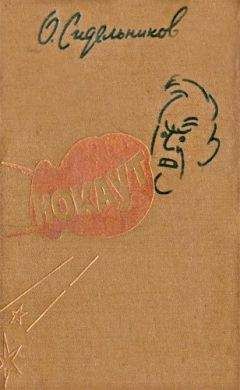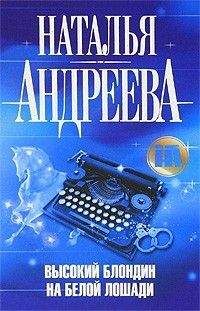Ноги приросли к земле, потом земля с силой выбросила меня из окопа. Я падал, вскакивал и бежал, бежал… Ужас гнал меня все дальше и дальше, стрельба и взрывы прибавляли сил, бегущие силуэты людей подгоняли: «Быстрей! Быстрей!»
Треск, шум — и я лечу под уклон. Больно ударился спиной. Сердце готово выскочить из горла, перед глазами туман, а в ушах — топот, крики. И вдруг кто-то выстрелил несколько раз: «Бах-бах-бах!» и гаркнул яростно:
— Стой! Мать, вашу так… Застрелю. Прекратить! Всем в байрак… В овраг всем. Туда танки не пройдут — Вновь раздалось «бах-бах-бах». — Без паники, слушай мою команду!..
Этот властный голос заставил меня чуточку успокоиться. Поднялся на ноги, пощупал автомат — на месте ли. Стыд ожег, как плетью. Опять бросил товарищей! Где они, что с Глебом и Вилькой? Надо бы разыскать их.
Легко сказать — разыскать! Там уже фашисты. Стемнело. Навстречу, отстреливаясь, пробираются бойцы.
Если пойти к селу, пристрелят, как дезертира. Что делать?..
Остатки окруженных частей углублялись по байраку все дальше на запад. Другого выхода не было. Позади изредка бахали пушки, вспыхивали короткие перестрелки. Стадное чувство тащило меня за теми, кто брел по байраку, Я шел, втянув голову в плечи, и плакал — беззвучно, но слезы лились ручьями. Рядом покачивались беловатые пятна лиц, хрустел под сапогами валежник. Странно было слышать начальственные распоряжения: «Головной дозор… боковое охранение…» К чему все это? Чей голос? Очень знакомый голос… Да ведь я знаю его. Он кричал на меня в селе: «Навоюешь с такими» и командовал: «Стой… Мать вашу так. Застрелю… Всем в байрак! Без паники».
Послышался въедливый шепот:
— Куда идем, а? К своим бы надо. А мы на запад.
— Топай себе, — отозвался басок. — Разговорился. Запад ему не подходит. На Берлин идем, ясно?
— Ясно, — покорно ответил тот, кто спрашивал.
— Эй, — негромко спросили в темноте (я узнал голос Очкарика и чуть не вскрикнул от радости), — кто здесь на Берлин собрался? Отзовись.
— Ну я. А ты кто?
— Старший батальонный комиссар.
— Виноват, старший батальонный комиссар! — всполошился басок. — Темень ведь, не признал, думал, какой боец, решил под свое начало принять. Извините. — Басок вновь спохватился — Докладывает старшина Могила.
Старшина назвал свою часть, а я поразился его фамилии. Угораздило же человека! Весело воевать с таким старшиной, ничего не скажешь.
— Это вы хорош насчет Берлина сказали, — заметил комиссар Бобров. — Раз живо чувство юмора, значит, и воин жив. А вот за то, что днем нас не поддержали, — не хвалю. Что же это вы, соседушки справа, оплошали?
— Наша рота не оплошала, товарищ комиссар. Не мое дело, конечно, приказы обсуждать, но так думаю, что лучше бы и вовсе не атаковать. Маловато сил.
— Хм, — ответил комиссар. Очевидно, и он был того же мнения:
Натыкаясь в темноте на устало дышащих бойцов и по-дурацки вякая «извините, пожалуйста», я направился к Боброву — единственно близкому мне сейчас человеку. Вот он, шагает со старшиной. Я пристроился рядышком. Сердце билось тревожно и радостно.
— Не оплошала, говорите, ваша рота? — спросил Очкарик.
— Так точно, товарищ комиссар. И полк был боевой.
— Почему «был»? — резко бросил Бобров.
— Номер от него один остался… Горстка бойцов уцелела. v
— А знамя?
— Знамя тоже. Полотнище у сержанта Седых.
— Значит, не был полк, а есть полк, товарищ старшина. И пусть знают об этом все бойцы. Ваш полк еще повоюет.
— Повою-ует, — с сомнением протянул тот, которому не хотелось идти на запад.
— Да, обязательно намнет фашистам бока, — Бобров вроде бы не заметил иронии. — И в Берлин войдет. Не нынче разумеется, — попозже. Не одолеть фрицам России.
— Да где он — полк-то? — не унимался зануда-боец. На месте Очкарика я наорал бы, пригрозил судом, — и без него тошно.
— Где полк, спрашиваете (на собственном опыте я уже убедился, что в подобных ситуациях вежливое «вы» хуже матюка и пощечины)? Где полк? Вокруг вас шагает. Вокруг вас, уважаемый. Пробьются бойцы со стороны Умани — усилится. Вырвется к своим, переформируется — и даст немцам под дых.
«Вокруг вас», «уважаемый» — слова эти вогнали меня в краску. Ведь и я думал, как тот гнус.
Кончился байрак, мы прошли — через кустарник и укрылись в небольшом урочище. На северо-западе слабо пробивалась заря. Что за черт! Заря на северо-западе?
— Что-то горит, — вздохнул Могила.
— Они у нас тоже погорят, — деловито произнес Бобров. — Еще как погорят!
Не знаю, что со мной произошло, но словно кто-то толкнул меня в спину. Я шагнул к Очкарику, сказал, силясь проглотить комок в горле:
— Товарищ комиссар, товарищ комиссар… Павку убили… И Глеба с Вилькой убили. Что теперь делать, товарищ комиссар?.. Мы добровольно, а нас всех… Товарищ комиссар…
В темноте тускло блеснули очки Боброва.
— Ничего не пойму. Какой Глеб? Фамилия… Как твоя фамилия?
— Стрельцов, товарищ комиссар. Только вы меня не знаете. Мы, когда колонной шли, все про газеты говорили, помните? Глеб думал, что врут газеты, и обижался на лозунг «Смелого пуля боится». Помните?
— А-а, — протянул комиссар, — как же, припоминаю. Только вас вроде четверо было.
— Четверо. Павку вы не знаете, его еще раньше убило. А тот четвертый… Ткачук без уха… ему руку перебило, и он куда-то пропал. — Я говорил сбивчиво, — мне почему-то казалось, что комиссар знает о моем постыдном поступке и вот-вот оборвет злым вопросом: «Где твои товарищи? Бросил, негодяй!»
Бобров, однако, не перебивал меня, даже подбадривал:
— Ну-ну, без глупостей, а то я ничего не пойму, яснее, сынок, говори.
— Глеба и Вильку убили. Один остался.
— Убили, говоришь? Сам видел или, может, предполагаешь? —
Кровь хлынула мне в голову. Я замолчал, не зная, что сказать. Видел! Ничегошеньки я не видел, бежал, как последний трус.
Комиссар словно в душу заглянул, спросил:
— Глеба и Вильку… так, кажется… убитых видел собственными глазами?
— Н-нет… испугался очень.
— Кого? Фашистов? Танков их?
— Фашистов испугался, конечно, но не так, чтобы очень. Мы их… мы им… Своих перепугался, как закричали: «Окружают! Спасайся».
Лучше бы и не заговаривать с комиссаром. Сейчас он мне выдаст! И за дело.
— Эх ты, аника-доброволец, — в его голосе не было упрека. Он говорил как отец с сыном. — Своих, значит, перепугался… Своих! Это не свои, сынок. Сволочи — какие они свои! Да ты не волнуйся, может, еще и найдутся твои товарищи. Какого полка?
— Сводного батальона, товарищ комиссар.
— Какого полка, спрашиваю.
— Не знаю, товарищ комиссар. Бобров не очень удивился.
— Не знаешь, говоришь? Интересно. Неужели память отшибло со страха? Ну же, докладывай. Все по порядку.
Выслушав мой сбивчивый рассказ о нашем бегстве из дому, о бомбежке и гибели Павки, комиссар вновь взял меня за плечи, тихонько, как маленькому, поерошил волосы:.
— Дела… Досталось вам, ребятки. Ты, сынок… звать-то как тебя, а?.. Ты, Юра, держись. Будь мужчиной. Теперь ты боец и должен отомстить за Павку, за все с проклятыми рассчитаться. А то, что испугался паникеров… Ты думаешь, я не испугался? Самое последнее дело — паника. Сволочная штука. Из-за нее сегодня мы, знаешь, сколько народу зазря потеряли!.. Как услышал: «Спасайся! Окружают!» — в ноги ударило, чувствую — сердце в желудок проваливается. Еле-еле удержался, еще чуток — и заскакал бы зайцем. Я ведь тоже не кадровый. Еле удержался. Так-то вот. Но удержался. И даже распорядился схватить паникеров. Поздновато, правда, но что поделаешь… Утром разберемся. А ты, сынок, вот что: ложись, отдохни. Утро вечера мудренее. Главное, в руки себя возьми.
Очкарик похлопал меня по спине, сказал шутливо:
— Это хорошо, что ты совсем юнец. Даже завидки берут — бриться тебе не надо. А на войне, знаешь, как туго с бритьем? Ни тебе парикмахерских, ни воды горячей. Беда.
Послышались шаги, голос старшины Могилы негромко позвал:
— Товарищ комиссар, где вы?
Бобров откликнулся. Старшина, Мягко ступая сапогами, подошел к нам.
— Товарищ комиссар, разрешите проводить к командиру.
Они скрылись в темноте, а я прилег на сыроватую землю, пахнущую прошлогодними листьями. В урочище нависла настороженная тишина. Деревья походили на молчаливых великанов. Ни ветерка. Лишь изредка там, за логом, взлетали огненные дуги немецких ракет.
Положив сбоку автомат, я лежал на спине. Вилька и. Глеб не давали мне покоя. Неужели их убили!
Убили! Дикое слово. Это значит — сделать так, чтобы человек перестал дышать, чувствовать, есть, пить, улыбаться. Был человек — и нет. Осталась только видимость человека, которую называют отвратительным словом — труп! Люди никак не могут привыкнуть к этому жуткому слову и поэтому, произнося его, говорят всякую чепуху, теряются: «Труп пожилого человека»… «Труп принадлежал молодому мужчине»… Какая ересь! Что значит «труп пожилого человека»? Это же не пиджак… И почему — «принадлежал»? Словно человек при жизни владеет собственным трупом. Фу, гадость какая!