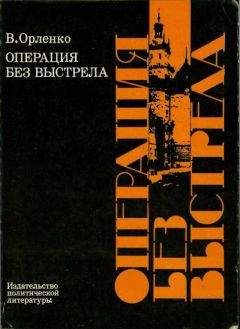— До весны еще ого-го, — произнес Шулика. — А хоть бы и дождались, так не думаю, что нам будет легче.
— Прикуси язык, — оборвал Барвинок. — Смотри, накаркаешь.
— Да что уж там, — махнул рукой Шулика. — Не надо большого ума, чтобы понять: скоро всему конец.
— А раньше всего тем, кто про это болтает, — рассердился Барвинок. — Услыхал бы Песня, куда ты клонишь, пустил бы пулю в лоб: тебе — за то, что болтаешь, мне — за то, что слушаю.
— Этим меня не испугаешь, друже. Насмотрелся в подполье всякого. Но, поверь, самое страшное, когда свои своих убивают. Ну скажи, чем те хлопцы, которых объявляют ненадежными, провинились перед организацией?
— Или не понимаешь? Человек, ни в чем таком не замешанный, может явиться с повинной и выдать остальных.
— Ну так зачем же мы с тобой тащили их в лес?
— Этого требовал провод. Так уж сложилось. Ну, а теперь времена переменились…
— Еще как переменились, — вздохнул Шулика. — Попробуй покажись на люди. Не так давно послал меня Песня в одно село за харчами. Ночью нашел я нужную хату, постучал в окно. Хозяйка увидела меня и отворила. Захожу, значит, внутрь, а там уже ждут с винтовками местные дядьки. Чудом я тогда спасся. В то проклятое село никто из наших больше не заходил, а надо было бы пойти, расквитаться кое с кем…
— У меня тоже есть счеты на одном хуторе, — сказал Барвинок. — Если бы не зима и не запрещение Песни, так пошел бы туда хоть сейчас. Прямо сердце печет на тех, кто связал меня и передал в руки чекистов.
— Ну и ну! — удивился радист. — Как это так?
Барвинок подвинулся ближе к Ореху.
— Это поучительная история. Если ты, друже, попал к нам в подполье, так должен знать, что местным жителям, даже хорошо проверенным, теперь доверять нельзя. Все они поддерживают Советскую власть. Этого я не учел и чуть было не поплатился головой. Вот послушай, как это случилось. В теплый летний день несколько наших групп переходили на новую базу. Тогда я еще был районным проводником и держал при себе охранников, но выслал их далеко вперед прокладывать путь нашей колонне. Остался только с одним боевиком. У глухого лесного хутора наскочили мы на засаду «ястребков», и пришлось принять бой. Много наших погибло в тот раз. Но мне удалось бежать. Прятался в кустах, пока не стемнело, и тогда уж повернул к хутору. Приняли меня там старые знакомые, накормили, напоили и спать положили. А утром я проснулся со связанными руками. Чекисты ждали во дворе. Кто я такой — не надо было и объяснять. Приказали идти по тропинке и не оглядываться. Местность я знал хорошо, имел поблизости несколько схронов, только сбежать не подворачивался случай. Наконец мой конвоир остановился, сел под елью, отложил в сторону автомат и закурил. У него зуб болел, он вытащил из кармана пакетик, набрал щепоть какого-то порошка и стал прикладывать к десне. Тут я и изловчился: прыгнул в глубоченный овраг прямо со связанными руками. Следом по кустам только залопотали пули, но ни одна не попала. Через неделю я встретился со своими. Но после этого случая мне перестали доверять… Ну, хватит об этом…
Рассказы Шулики и Барвинка поразили Ореха. Он рассчитывал увидеть в подполье героев, которые, как утверждали Доктор и Ярополк, отстаивают право украинцев на счастливую жизнь. Теперь окончательно убедился, что эти «герои» не имеют ни малейшей поддержки в народе и даже больше — прячутся по схронам от своих же земляков.
Минуту поколебавшись, Орех спросил:
— Неужто всюду люди так скверно относятся к националистам?
— К сожалению, да, — ответил бывший районный проводник.
— Почему?
— Это длинная история, — отмахнулся Барвинок.
— А все-таки?
— Видишь, после такой страшной войны народ хочет жить в покое. Идеи ОУН ему абсолютно чужие. Советы дали украинцам больше, чем можно было ожидать. Возьмем главное: говорят на родном языке, учатся в украинских школах, институтах. Что мы можем сделать? Как убедишь людей, что Украина должна быть только для украинцев? Мы их уничтожали, но из этого ничего не вышло. Все эти годы ты, друже, был за границей, поэтому не видел, что тут делалось.
— На что же теперь можно надеяться? — спросил Орех.
— Не на что, — равнодушно ответил Шулика. — С повинной явиться мы не можем — слишком много за каждым записано. Ждем войны. Но дождемся ли мы этого часа?
— Ну, довольно, — перебил Барвинок и глянул на радиста. — Пусть так, мы попали в безвыходное положение. А вот ты? С чего ты полез в петлю?
— Если бы там, за границей, знали, что тут ничего нет, так не послали бы.
— Вряд ли, — пожал плечами Шулика. — Я так не думаю. Из твоего задания видно, что заграничных руководителей интересует не состояние нашей организации. На нас им, может быть, и начхать. А вот разведка… Разведка, друже, — это золотая жила. С этого они живут.
— Говорю, брось. Не умничай, — оборвал Барвинок.
На протяжении зимы оуновцы часто касались этой темы, но ни разу разговоры не заходили так далеко. Потом растаял снег, и Ильчишин перевел Ореха в Миколин бункер. К Барвинку и Шулике он переселил Бегунца.
В тот год весна была ранняя и наступила неожиданно. А потом так же неожиданно вернулась зима. Уже появилась первая зелень, уже теплое дуновение тревожило землю, когда однажды утром выпал снежок. Под косогорами заблистали, словно осыпанные мелкими осколками, ломкие льдинки.
Теперь радист трудился под присмотром Ильчишина. Тот ругал хлопца на чем свет стоит, обзывал его недотепой, дармоедом, и сам стал ковыряться в передатчике, пока не добился своего — радиостанция заработала.
В тот же вечер эмиссар вынул шифровальные блокноты и склонился над чистым листком бумаги. К утру он подготовил шифровку для передачи в разведцентр.
Прежде всего он рассказал в ней о том, что вскоре после высадки связался все-таки с подпольем. Не мог дать о себе вестей, потому что рация была неисправной. Дальше шло сообщение, ради которого, собственно, его послали на Украину: провод в этих краях, мол, уполномочивает ЗП УГВР представлять все украинское освободительное движение в мире и подтверждает, что Бандера не является проводником ОУН.
Текст, сфабрикованный угевееровцами в Мюнхене тайно от американцев, был рассчитан на то, чтобы заинтриговать разведку «возможностями» выдуманного «подполья» и использовать это в оппозиционной борьбе против Бандеры и его 34 ОУН, так называемых закордонных частей ОУН, которые конкурировали с ЗП УГВР, возглавляемой Лебедем.
Американцы требовали от эмиссара разведданных, но он их не имел, поэтому хитрил, ссылаясь на то, что зимой не мог вести разведывательную работу, но теперь надеется, что с наступлением весны поручение выполнит успешно.
— Готовить информацию для американцев будет нетрудно, — говорил Гриньох Ильчишину перед вылетом. — Кто может проверить точность данных? Уверяю тебя, разведка лишена таких возможностей.
И все-таки эмиссар боялся переборщить, поэтому в первом сообщении ограничился только тем, что требовали от него руководители.
После минутного колебания Ильчишин сложил вчетверо бумажку, спрятал ее в карман, растормошил радиста и приказал:
— А ну, вставай, лентяй.
Над лесом разливалась золотая каемка рассвета, когда Ильчишин и Орех вернулись после первой радиопередачи. Оба были возбуждены, раскраснелись от быстрой ходьбы.
По тому, как нервничал эмиссар, Мамчур догадался: Ильчишин получил выговор. За что? За долгое молчание? Или, может, за вынужденную бездеятельность?
Орех, позавтракав вместе со всеми, завалился спать и, когда вошел Песня, досматривал прерванный сон. Ильчишин что-то писал в своем блокноте.
— Ну как, связался? — поинтересовался Песня и, не ожидая ответа, спросил: — Сколько длился сеанс?
— Минут пятнадцать, — сказал Ильчишин. — Как думаешь, запеленговали станции перехвата нашу рацию?
— Все может быть. Откуда ты вел передачу?
— Отошли мы с Орехом километров на шесть-семь от бункера. Перебрались через ручей к крутому обрыву. Туда и забросили антенну.
— А как слышимость?
— Так себе. Пришлось пробовать на разных диапазонах.
— Что же дальше?
— Ничего особенного. Поболтали немного, собрали причиндалы и навострили лыжи.
— Как приняли в Мюнхене твое сообщение?
— Кто знает, наверное, обрадовались. Но, сам понимаешь, много чего в том сообщении сказано авансом. А если откровенно, то дела плохи: будут ругать за пассивность. И справедливо. Я не раз говорил тебе, что время бы заняться делом.
— Как бы не так, — раздраженно кинул Песня. — Кто-то один завалится, и все мы, как есть, попадем в лапы чекистов. Будь уверен, органы надлежащим образом оценят твои связи с Мюнхеном.
— Послушай-ка, друже, — твердо сказал Ильчишин. — Напомню тебе одну старую, как мир, истину: кто не рискует, тот ничего не получает. А ты рано или поздно попадешь за границу. Так позаботился бы о своей судьбе еще здесь, на Украине. Эх, друже, — добавил он с досадой, — пренебрегаешь распоряжениями организации так, будто не знаешь последних указаний.