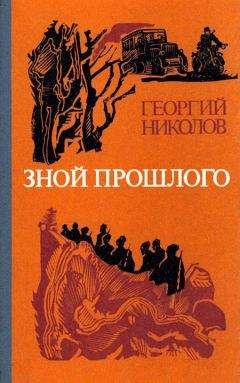Помню, как он поманил меня и молча показал на место рядом с собой. Я пристроился возле него, но Будев по-прежнему хранил молчание. Почувствовав неловкость своего положения, я недоуменно взглянул на него. Будев сидел, привалившись к стене, и его взгляд отрешенно блуждал по камере.
— Ты не болен? — спросил я, чтобы прервать затянувшееся молчание.
Ни один мускул не дрогнул на его лице. Наконец, по-прежнему не глядя на меня, он заговорил:
— Меня зовут Райо. В нашем роду нет никого с таким именем. Видно, моя мать хотела, чтобы жизнь моя прошла как в раю. Но не получилось. И жить мне осталось уже недолго — скоро меня расстреляют.
Я даже вздрогнул от его слов, но Будев предостерегающе поднял руку, как бы прося не возражать ему:
— Молчи. Я знаю, что будет со мной. А вот ты доживешь до победы. Расскажи потом то, что услышишь от меня.
— Кому рассказать?
— Кто-нибудь непременно разыщет тебя.
— Неизвестно еще, кто из нас доживет, а кто и нет, — прошептал я, — так что не стоит гадать. Расскажи лучше, если, конечно, хочешь, о том, что мучает тебя.
— Мучает меня то, что из-за меня должен погибнуть ни в чем не повинный человек.
Прошли годы. Я уже почти забыл о том давнем разговоре. Никто не искал встреч со мной, да и я сам в суете повседневных дел все реже мысленно возвращался к тем давним событиям. Будев был похоронен в братской могиле. Его имя выбито на гранитной плите рядом с именами моих товарищей, расстрелянных в ту ночь фашистскими палачами. И вот однажды, спустя много лет, меня разыскала его дочь. Вероятно, он именно ее и имел в виду, когда говорил, что кто-нибудь наверняка захочет встретиться со мной. Не знаю, почему он не сказал мне, что у него есть дочь. И вот теперь я должен был пересказать услышанную мною много лет назад трагическую исповедь другому человеку.
Все, что я знал о Будеве, было мне известно только с его слов. И хотя его рассказ казался искренним, все же человеку порой свойственно беспочвенно обвинять в собственных неудачах других людей. Встреча с дочерью Будева побудила меня разыскать людей, знавших его в последние годы его жизни…
— Разумеется, помню его, как не помнить… — такими словами встретил меня бай Ганчо. — Должен тебе сказать, что с этим парнем мы ошиблись. Когда он появился в нашем селе, обстановка была крайне тяжелой. Фашистское правительство уже развязало войну против собственного народа. Много было провокаторов, трудно разобраться в каждом новом человеке. Ну а иначе с нашей молодежью он сошелся бы быстро, дружили с ним…
— Меня сторонились, почему — не знаю, — рассказывал мне Райо в ту давнюю ночь. — А мне к тому времени уже надоело скитаться из села в село. Кем и где я только не работал. Хотелось осесть где-нибудь. А их село сразу понравилось. По всему было видно, что народ здесь подобрался решительный и готовят они что-то значительное. Ходил на вечеринки, на посиделки, слушал их рассказы, их песни. Мне не составило особого труда догадаться, что именно они скрывают. Радовался от души, сам мечтал включиться в работу. Набрался смелости — принялся расспрашивать о том, что мне было неясно. Свое мнение высказывал не таясь, как перед товарищами. Даже предложил какое-то конкретное дело. Считал, что недопустимо сидеть и ждать, когда по всей стране полыхает огонь борьбы. Но, видимо, что-то сделал не так, в чем-то ошибся. Вместо поддержки почувствовал сначала настороженность, а потом и вовсе попал в полную изоляцию. Стоило мне появиться где-либо, как тут же прерывались разговоры, стихал смех. Попытался объясниться, но в ответ они лишь пожимали плечами и говорили: «Мы политикой не интересуемся, с коммунистами не имеем ничего общего». Но мне было ясно, что они просто не доверяют мне, остерегаются меня. Нетрудно было догадаться, кто у них главный. Встретил как-то на площади этого человека и спросил без всяких недомолвок: «Почему твои люди избегают меня? Разве я враг? Я не мог ждать, когда вы решите привлечь меня, сам пришел, потому что ненавижу богатеев, фашистов. Ту самую прибавочную стоимость, о которой ты рассказывал, я на своем горбу испытал. И сейчас мне не легче. С утра до ночи спину гну на чужих людей, я даже поесть не могу досыта. Так что мое место среди вас». Он даже не взглянул на меня. Сидел и курил неторопливо. Наконец нарушил молчание: «Не знаю, каких ваших и наших ты имеешь в виду. Скажи лучше прямо, не темни». Схватил его за плечо: «Хочу быть с вами, с вами, с коммунистами». А он тут как отрезал: «Ты меня к коммунистам не причисляй. Не было у меня с ними никаких дел и не будет. Так и передай это тому, кто тебя послал». И тут же повернулся и ушел не простившись. Остался я один на площади. Постоял там недолго да и пошел к сельскому клубу. Никто меня не окликнул по дороге, никто не заговорил со мной. Так и потянулась моя жизнь: дом — работа, работа — дом. Вроде бы все нормально, а душа болит. Не по мне было такое затворничество. Надеялся, что поймут меня рано или поздно и привлекут к работе. Но так и не дождался.
— За что же тебя арестовали? — поинтересовался я, но Райо не расслышал мой вопрос или не обратил на него внимания. На его лице появилось подобие улыбки.
— Может, я был недостаточно красив для них? Наверное, они подбирали видных собой и стройных, как гайдуки. А на моем лице и от крутого кипятка шрамы остались, и оспа его не пощадила. Так что какой из меня мог получиться партизан?..
Когда я позднее спросил об этом бая Ганчо, он резко оборвал меня:
— О какой красоте говоришь? Мы тогда за большие дела взялись: чету укрывали, вели подготовку к созданию отряда. Как могли рисковать?! Я сам тогда вернулся из лагеря, но каждый день вновь ждал ареста. Да и решение не доверять Будеву было не лично мое, а всего руководства. Возможно, со временем и его бы привлекли к работе, но слишком уж он торопился. Разве с этого начинают нелегальную работу? Хочу быть с коммунистами, дайте мне винтовку! В нашем деле спешка и до беды могла легко довести. В те времена приходилось держать ухо востро. Да вот хотя бы со мной самим какая история приключилась.
Появился тогда в наших краях один рабочий с кирпичной фабрики — из себя такой веселый, остроумный, приветливый. Быстро сдружился со многими нашими ремсистами. Как-то раз они привели его ко мне — парень, мол, знает мотив «Интернационала», а вот слова путает, так что не продиктую ли я их ему. Но меня к тому времени полиция уже научила осторожности — спровадил я гостей ни с чем. А вскоре человек тот слишком поспешно покинул село, даже не получив причитающейся ему платы. Прошло еще несколько месяцев, и меня вновь арестовали. Долго возили из одной тюрьмы в другую. На одном из этапов ко мне подошел какой-то разодетый франт. Не обращая внимания на охрану, он насвистывал «Интернационал». «Сожалею, — говорит, — что не продиктовал ты мне тогда слова. Отдыхал бы давно в тюрьме, а не мотался по всей стране». Смотрю на него, а это старый знакомый, тот, кто выдавал себя за рабочего с кирпичной фабрики, только теперь в своей истинной роли.
— Значит, ты все же умел распознать, кто друг, а кто враг, — упрекнул я бая Ганчо.
— Удивляюсь тебе, — с досадой прервал он меня, — ведь Будев тогда еще ничего не сделал, чтобы ему доверять во всем. Да и времена были слишком суровые. А он появился неизвестно откуда… Так что же, по-твоему, надо было сразу поверить ему?..
— И все же я стал партизаном, — сказал мне тогда в камере Райо. — Хотел доказать и доказал, что я против фашистской власти…
…Наши товарищи по заключению давно заснули. Усталость одолела желание узнать, о чем мы там шепчемся в углу. В камере наступила тишина. Лишь изредка с верхних этажей доносились к нам в подвал крики пьянствующих жандармов. Только на другой день мы узнали, что поводом для затянувшегося далеко за полночь банкета послужил арест нескольких партизан.
На следующее утро первым спустился в камеру поручик в очках. В руках он держал кусок черного, как земля, хлеба, который партизаны ухитрялись выпекать прямо в горах.
— Если бы не схватили вас вовремя, — начал он, — пришлось бы вам довольствоваться таким хлебом. Кто из вас хочет отведать? А ну-ка, давай ты. — Поручик схватил за руку ближайшего к нему арестованного и принялся с силой запихивать ему в рот принесенный хлеб.
— Ничего, что черный, зато вкусный, — ответил ему тот, проглотив с подчеркнутым удовольствием кусок хлеба.
Поручик побледнел как полотно. Очки затряслись у него на носу. Он явно растерялся и не знал, как ему поступить в подобной ситуации. Зло оглядев каждого из нас, он прошипел сквозь зубы:
— Мерзавцы!
Затем, бросив на пол оставшийся у него в руках кусок хлеба и растоптав его сапогами, поручик распорядился:
— Караульный, сегодня этим негодяям никакой пищи не давать. Запрещаю! После обеда привезут пойманных партизан, пусть они тогда и накормят их.
Но все это произошло на следующее утро. А сейчас в камере установилась тревожная тишина, все наши товарищи по заключению уснули, и лишь мы вдвоем продолжали бодрствовать. Одолевавшая меня дремота бесследно исчезла. Рассказ Будева приоткрывал передо мной все новые страницы его трагической судьбы. Я ни на секунду не усомнился в его искренности и жалел лишь о том, что не познакомился с ним раньше.