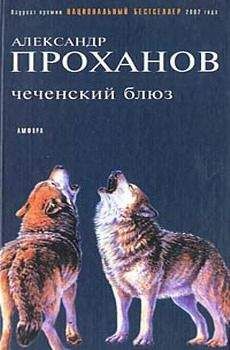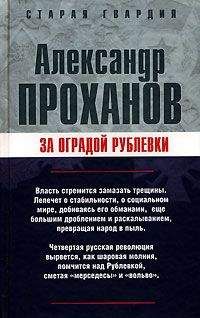И другое видение, от которого стало не по себе: не он, Бутурин, допрашивает моджахеда в железном коробе, усыпанном окурками, сором, а этот, похожий на джина великан, допрашивает его в саманной темнице, весело, беспощадно терзает, режет, сечет ножом, и глаза его вот так же выпукло, влажно блестят, краснеют в бороде вывороченные губы, и мука его, Батурина, страшна, бесконечна.
— Он может сказать, сколько людей в головном отряде Махмудхана? — спрашивал Березкин. — Есть ли в кишлаке «дэшэка», зенитки? Не видел ли он переносных зенитно-ракетных комплексов? «Стингеры», «блоупайцы»?
Пленный отвечал, что точно не знает. Есть разное оружие. У молодого Махмудхана есть большие пулеметы и пушка. Если шурави отпустят его, он может вернуться в Мусакалу, получше все разузнать и после рассказать шурави. Он не любит муллу Акрама. Тот нанес обиду ему и его братьям. Он любит шурави — военный доктор бесплатно дважды осматривал и лечил его рану. Если его отпустят, он через несколько дней вернется и расскажет, сколько оружия у молодого Махмудхана.
— Скажи, мы отпустим его. Но у него еще будет ночь, чтобы подумать и вспомнить, не видел ли он у молодого Махмудхана зенитных ракет и все ли броды на подступах к Мусакале открыты для переправы… Отведи его! — приказал Березкин солдату.
Когда пленный, опираясь на палку, приветливо улыбаясь и кланяясь, удалился, Березкин сказал Батурину:
— Вот этот фазан настоящий! Завтра приготовься, будем с ним долго работать… Я его сразу приметил в автобусе, отличил безошибочно… Фазан замечательный!
Начальник разведки, закрыв глаза, тихо, счастливо засмеялся.
В сумерках Батурин, утомленный, рассеянный, медленно направлялся к себе мимо продовольственного склада, у которого стоял часовой, сгорбленный под бронежилетом; мимо штаба, где дежурный громко говорил в телефонную трубку; мимо центра связи, накрытого шатром маскировки, из-под которого невнятно доносились позывные связиста.
Его окликнули:
— Батурин, а мы к тебе стучались! А ты вот где! Айда к нам, посидим… Военврач Ловчук и продавщица военторга Светлана преградили ему дорогу. Оба радовались тому, что отыскали Батурина. А тот почти испугался встречи. Ему хотелось побыть одному, не хотелось в их тесную комнатушку, где душно, накурено, все те же знакомые лица — врачи, вертолетчики, офицеры штаба, гарнизонные женщины. После ядовитого, жгучего глотка спирта тусклая лампочка вдруг начинает гореть светлее, лица женщин выплывают из тьмы, Ловчук хватает гитару, принимается яростно хлестать пальцами по струнам. Закатывает глаза, поет свои нескладные, сумбурные, яростные песни про разведку, десант, караваны, про бои в «зеленке». И все, кто сидит, хмельные, знающие друг о друге всю подноготную, истосковавшиеся, истомившиеся начинают подпевать. И все это в тесном саманном домике на краю медсанбата, где в палатах стонет подорвавшийся механик-водитель и слоняется, стучит костылем не ведающий сна лейтенант. Посидят, попоют, накурят донельзя. Разбредутся кто куда парами — любовники, кто на час, кто на год, породненные на время этой душной афганской степью.
— Батурин, айда ко мне! — приглашал Ловчук. — Посидим, попоем!
— Пойдем, — звала Светлана. Батурин видел в полутьме, как она улыбается, какая у нее высокая, крепкая грудь и белая шея. — Ты меня, вроде, боишься!
— Да нет, не могу сегодня, — отказался Батурин, желая, чтоб они поскорее ушли. — Много бумаг накопилось.
— Нашу Светку не берут в разведку! — хохотнул Ловчук. Обнял ее за плечи, притянул к себе. И они ушли туда, где у глинобитных казарм горели тусклые лампочки и темными, неразличимыми массами двигались солдаты, слышались голоса, стук сапог.
Он вернулся к себе и, лежа на суконном одеяле, положив под лампу раскрытую книгу, стал читать.
Это была поэма «Бабур-намэ» на фарси, с цветными миниатюрами. Она была захвачена десантниками вместе с кипой пропагандисткой исламской литературы и ящиками с промасленными гранатометами, когда душманская «тойота» напоролась на засаду в пустыне. Неизвестно, кто ею владел. Может быть, среди неграмотных мусульманских стрелков, жителей пустынных предгорий, крестьян, скотоводов, погонщиков, находился какой-нибудь университетский бакалавр, интеллектуал-идеолог, пробиравшийся из Пакистана вместе с караваном оружия. Их было не отличить друг от друга, разорванных в клочья снарядами «бээмпэ», когда оператор навел прицел на тусклые подфарники пробиравшейся по барханам «тойоты». Утром «тойота» еще дымилась. Десантники жгли тюки с брошюрами, перегружали в боевую машину трофейные гранатометы. И молодой командир углядел и выхватил из огня нарядную, в кожаном переплете книгу.
Батурин перевертывал плотные, обугленные по краям страницы, где шел рассказ о деяниях царя, о его походах, битвах, молениях, где восточная мудрость, облеченная в стих, учила жизни, служению богу, избавлению от страстей и скорбей, чтобы человек, пройдя свой путь по земле, утомившись в любовях, сражениях, изведав измену друзей, гибель любимых и близких, взошел тропою праведника в лазурный рай, прекрасный, как утренний свет на стенах изразцовой мечети.
Он рассматривал миниатюры, где тончайшей кистью были изображены царские охоты в горах, поединки витязей, осады городов. На ярких коврах плясали танцовщицы. Мудрецы сидели под раскидистым деревом, слушая перламутровую вещую птицу. Безвестный художник изобразил весь белый свет — с царствами, океанами, землями, с рыбинами в пучинах, с диким зверьем в лесах. И повсюду — в мечетях Герата, в садах Джелалабада, в тенистых рощах Кабула — душа воителя, покорившего народы и царства, взывала к силам небесным, молила защитить, научить.
Батурин отвлекся от чтения. Все, о чем читал в этой книге, присутствовало здесь, вокруг. В кишлаках и мечетях, в смугло-красных лицах дехкан, в коврах, в каменных башнях. Те же скалы, ручьи и посевы. Те же птицы и звери в горах. Кругом был Восток, все тот же, неизменный.
Батурин пытался глядеть на него глазами мудреца и поэта, странника, идущего по дорогам в поисках мудрости, озирающего лик земли. Но он не был мудрецом и поэтом. Он был военным, из другой земли. Пришел с воюющей армией. Его движение по горам и пустыням напоминало надрез. Рушило, вспарывало древний уклад. За кормой его «бэтээра» бурлила, стенала рассеченная жизнь, в которой умирали, корчились в кровавых бинтах, кричали на допросах, вонзали пулеметные очереди в пятнистые тела вертолетов. Однажды в разрушенном кишлаке среди обугленных яблонь он нашел на земле перламутровую, обожженную птицу, убитую взрывом…
Он встал, накинул куртку, вышел на воздух, под звезды. Стоял среди ровных, холодных дуновений близкой предзимней пустыни. Тарахтел по соседству движок. Масляно желтело оконце в вертолетной диспетчерской. Он двигался взором среди живого, шевелящегося звездного мироздания, тянулся ввысь. И ему казалось, эти холодные, чистые дуновения прилетают от звезд, несут из Вселенной загадочную, неясную весть.
Он напрягал глаза, устремлял их в серебристую, туманную бездну. Старался представить иную, страшно удаленную жизнь на невидимых, витавших меж звезд планетах. Она, невидимая, туманила звезды, делала космос не черным, не глухим, а воздушным, проявляла себя в бесчисленных дуновениях.
На одной планете, казалось ему, в том, мерцающем, с остроугольными очертаниями созвездии, — там, быть может, играли свадьбу. Валили с зеленой горы, топотали на жухлой траве, подсаживали в лодку жениха и невесту, сыпали звонкие деньги на жестяной нарядный поднос.
На другой, среди туманных светил, планете был его дом, были мать и отец, молодые, счастливые, среди весенних зайчиков света, и отец поднимал его на руках в белому потолку, где висела хрустальная люстра и в каждой граненой стекляшке, изумительно переливаясь и вздрагивая, метались золотые, зеленые огоньки.
А на третьей планете, той, что окутывалась млечной мутью набежавшего облака, — там шла война. Горели селения, гусеницы машин резали молодые хлеба, и кто-то тоскующий, одинокий стоял под ночными звездами среди этой войны, искал во Вселенной другой понимающий взгляд.
Батурину вдруг стало страшно. Он испытал почти ужас. Оцепенение, пронзившее грудь, остановившееся в сердце знание. Будто холодный свет звезд вошел в него тысячью тонких игл, впрыснул холод и смерть. Он вдруг понял, узнал, что будет убит. Непременно будет убит на этой войне, Не сегодня, не завтра, а позже, но будет убит. И оно, это знание, прилетев от звезд, замерло в нем. Он стоял, не в силах просить о спасении.
Медленно оттаивал. Понурый, усталый, возвратился в свою комнатушку, на кровать, накрытую суконным одеялом.
Ночью он проснулся от стука. На пороге стоял посыльный из штаба:
— Товарищ лейтенант!.. Полковник Березкин срочно послал за вами! Березкин сидел в своем кабинете, тоже поднятый недавно с постели, с непричесанными редкими волосами, в незастегнутой куртке.