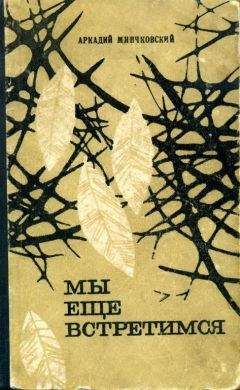Свежий людской поток, еще не нагревавшаяся в бою артиллерийская техника двигались на фронт, а в обратную сторону, с трудом пробивая себе дорогу, шли машины с ранеными. У тех не было ни касок, ни противогазов.
Кто мог дойти своим ходом, шли пешком. Они брели по два, по три, группами. На небритых лицах была только одна усталость. Те, что были пободрей, поддерживали других. Шли не торопясь, останавливаясь и с любопытством поглядывая на новеньких, которые спешили на их место. На бинтах алели пятна крови.
Командиров остановил раненый паренек в продранной шинели. Осторожно спросил, не найдется ли табачку. Пока он одной рукой, подняв колено, ловко сворачивал козью ножку, подошло еще несколько раненых. Им тоже хотелось курить, но просить они не решались, лишь завистливо поглядывали на счастливого обладателя щепотки табаку.
— Берите, — сказал Ребриков, протягивая кисет. Хоть Володька и не курил, но носил кисет, потому что на войне это было признаком бывалого фронтовика. — Ну, как там?
— Не ахти. Худо, — помотал головой пожилой, давно не бритый боец с правой рукой на перевязи. — Зажал нас.
Рядом стоял рослый красноармеец в добела выгоревшей гимнастерке. Голова его, как чалмой, была обмотана бинтами.
— Давно ранен? — спросил Ребриков.
— Сегодня, с утра.
— Где?
— На том берегу. Километров шесть-семь.
Командиры молча переглянулись. Фронт, выходило, был совсем рядом.
— Значит, держат еще? — продолжал Ребриков.
— Держат, да не все, — опять заговорил небритый дядька. — Тикают бесы. Наш батальон еще где держался… Ну а справа ушли. Вот он и зажал нас.
— Кабы авиации, — сказал боец с белой чалмой, — э-эх бы и дали ему… А то башку не подымешь…
— И-ех и сыпет! — словно с восторгом отметил молодой парнишка, сладко затягиваясь окурком козьей ножки.
— Да еще картечью, собака, — добавил кто-то.
— А на переправе дает жизни! — вступил в разговор высокий здоровенный детина в маскировочной куртке до пояса. — Как скопленье, так и вжаривают. Аж — в кашу…..
— А вы откуда такой? — спросил старший лейтенант, оглядывая детину. Только тут Ребриков заметил, что у того не было никаких признаков ранения.
Боец заметно смутился.
— С девяносто второй, — сказал он. — Отбился я, не знаю, где наши.
— А другие что, чужие? — подмигнул раненый парнишка.
— Куда же теперь? — спросил Ребриков.
— В город на формирование.
— Ближе частей нет? — съехидничал белоголовый.
— Там места всем хватает, — сказал дядька.
Все засмеялись.
— Мне так велели. Что я — сам? — угрюмо оправдывался парень в пятнистой куртке.
Двинулись дальше.
— Драпанул, сволочь, — сказал старший лейтенант вслед беглецу. — Врет он все. До передовой не дошел и гимнастерку, наверное, у бабы на молоко сменял. Паникер, скотина… В начале войны мы таких шлепали.
Никто ему не ответил. Каждый думал о своем.
С шоссе свернули на проселочную дорогу. Так, объясняли местные, было ближе. Путь лежал через небольшую хуторского вида деревню. Здесь, вдали от пыльной фронтовой трассы, все казалось обычным и тихим.
— Квасу или молока бы, — облизнул сухие губы кто-то из командиров. — Да и подкрепиться время. Зайдем, что ли?
Чтобы дело пошло успешней, разделились на группы. Ребриков пошел с белобрысым старшим лейтенантом. Но в первом доме, в который они заглянули, оказалось много военных. Во дворе какие-то ребята, сняв гимнастерки, варили в чугуне картошку. В другом старуха и девчонка с дочерна загорелыми ногами выносили из дома и складывали на траву нехитрый житейский скарб: старый самовар, сундучишко, ватные одеяла. За сараем желто-белый старик, опустившись в неглубокую яму, выкидывал землю.
— Барахло заховывают, чтобы не сгорело, как бой проходить будет, — пояснил старший лейтенант.
— Пойдем спросим. Может, что продадут. Видишь, у них корова, — мотнул головой Ребриков в сторону сарая.
Приблизились к яме.
— Здравствуй, дед, — сказал старший лейтенант.
— Здравствуйте, — не слишком приветливо кивнул старик, не прекращая своего занятия.
— Молока не найдется ли немного?
— У хозяйки спроси.
Подошла женщина. Поодаль, скрестив на животе руки, замерла девчонка. Повторили просьбу.
— Нету у нас молока, — сказала хозяйка. — Утрешнее раненым отдала, а днем еще не даивала.
— Нам за деньги, — сказал Ребриков.
— Куда их, деньги-то. — Хозяйка опустила на землю принесенный из дому узел. — Немец их, что ли, брать станет?
Второй раз за последние дни встречался Ребриков с открытым неверием в силы защитников.
— Пойдем, — потянул он за рукав напарника. — Нечего нам тут…
За деревней в прохладной тени старого дуба поели хлеба с салом, запили водой. Вздремнув с полчаса, двинулись дальше. И опять, разгоряченные нещадным солнцем, шагали они навстречу группам раненых и вдогонку опережающим их машинам, которые таяли в бурых облаках дорожной пыли.
Только в середине следующего дня добились распределения по частям. Предписаний пришлось ждать долго. Все в штабе дивизии куда-то бегали, кого-то искали. Штабные из отдела кадров с зелеными петлицами на гимнастерках, с форменными портупеями через плечо носились с бумагами из избы в избу. У входа в опутанный проводами оперативный отдел, в выгоревшей траве, блаженно храпя, спали связные из передовых частей. Поодаль бродили их оседланные кони.
Ребрикова это удивило. Там, где он воевал, было иначе.
Но в полку настроение его поднялось. Командиром оказался совсем еще молодой майор в новенькой, аккуратно схваченной в поясе гимнастерке. Был он небольшого роста, коренастый, весь в движении. Поминутно оттягивал гимнастерку, ловко собирая ее ровными складками на спине. Он остался доволен тем, что Ребриков уже воевал. Помолчав, сказал:
— Пойдешь, лейтенант, в первый батальон. Там у нас ротного не хватает. Выбыл. Ясно?.. Народ в роте разный. Кое-кого подтянуть требуется. Чижин — моя фамилия, — сказал майор, прощаясь с Ребриковым. — В случае чего, прямо говори: «Чижин приказал», — и все…
Чижин понравился Ребрикову. Ничем он не был похож на его прежнего командира полка, строгого и внешне даже суховатого, но было видно — с таким воевать можно.
У комбата он узнал обстановку. Она не внушала больших надежд. Полк развернулся по фронту за непосредственно сражавшимися впереди частями. Задача была сдержать врага, если он прорвет оборону. Показав исчерченную цветными стрелками и ежиками помятую карту, комбат сказал:
— Примете роту, учтите — левее немцы будто уже на этой стороне. Правда, говорят, сегодня их потеснили. Но черт его знает! — он широко развел руками. — Не точно это.
Роту свою Ребриков застал за политзанятиями.
Сидя на свежеотрытых брустверах, свесив ноги в ход сообщения, бойцы слушали политрука. Сопровождавший Ребрикова батальонный адъютант сообщил на ухо политруку о прибытии нового командира. Политрук сразу поднял роту и доложил лейтенанту о том, что проводит политинформацию.
— Продолжайте, продолжайте, — сказал Ребриков и, поздоровавшись с бойцами, уселся рядом с ними.
Разглядывая людей, Ребриков не без удовольствия отметил про себя, что большинство выглядело не старше тридцати лет.
Политрук носил на петлицах на кубик больше, чем его новый командир. Был он уже немолод, по виду не из кадровых. Говорил неторопливо, обдумывая каждую фразу и не сразу подбирая нужные слова. В речи его давал себя знать мягкий южный акцент. Когда надо было сослаться на авторитет печати, политрук надевал очки и читал выдержки из газеты.
Сперва Ребриков, занятый своими мыслями, плохо слушал беседу. Но когда она закончилась и к политруку стали обращаться с вопросами, он невольно прислушался.
Бойцы спрашивали, что будет с фронтом, если немцы дойдут до Волги, и как будет с нефтью, если хоть временно окажется занятым Баку.
Политрук неторопливо и обстоятельно объяснил, что резервы страны неистощимы, что война будет продолжаться и за Волгой, пока мы не измотаем противника и не перейдем в большое наступление. Объяснял, что промышленность перебазировалась на Урал и дальше, и там ее хватает, так же, как и хлеба в Сибири и других местах, а нефти имеются новые месторождения, и не меньше, чем в Баку.
Внимательно вглядывался Ребриков в лица притихших солдат. Он вспомнил бескрайние голые степи за Волгой, что виднелись с высокого берега Дубовки. Отчетливо встала карта на стене в училищной библиотеке. Карта, на огромном пространстве которой не значилось ни городов, ни железных дорог. Ему вдруг ясно припомнились слова рабочего из маленького домика: «Если прорвется — ему все останется…» И Ребриков подумал о том, что нельзя внушать этим готовым ко всему ребятам, что есть еще куда отступать. Ведь и так здесь, на южном крае линии фронта, они уже восточней Москвы.