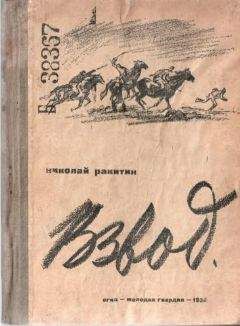Весь напружинясь, ломая недокрученную папиросу, Яковенко ждал, что ответит Гурьев.
Замещать командира батальона Гурьеву приходилось не раз. Но брался он за это без особой охоты. Да и бывало это главным образом в походе или в минуты боевого затишья. В большом бою Гурьев батальоном еще не командовал.
Гурьев ответил Бересову не сразу. И Яковенко с надеждой подумал: «Может, Бересов перерешит… оставит меня».
— Готов принять командование батальоном, товарищ подполковник, — проговорил наконец Гурьев.
— Ну что ж, добро! — Бересов глянул на Яковенко.
В душе подполковник немножко удивился такой решительности Гурьева. Но он хорошо знал этого офицера и давно к нему приглядывался. Гурьеву дважды предлагали повышение — должность в штабе полка. Он неизменно отказывался. И Бересову было известно, почему. Не потому что Гурьев побаивался большей ответственности. Просто ему не хотелось покидать батальон, с которым сроднился.
Бересов был уверен, что Гурьев с батальоном справится.
— Ну, что ж, — командир полка снова посмотрел на Яковенко, — сдавай дела и отправляйся лечиться. Ясно?
— Товарищ подполковник…
— Лечись, сказано! — совсем строго глядя из-под мохнатых бровей, повторил Бересов.
— Ясно. Разрешите идти? — выкрикнул Яковенко.
Не дожидаясь ответа, рывком, не замечая боли в раненой руке, он вскочил из-за стола, неловко набросил на голову кубанку и быстро вышел, почти выбежал из хаты. Слезы и стыд душили его.
«Ишь ты петух какой! — подумал подполковник, бросив взгляд на полушубок, забытый капитаном. — Ладно, тебе все это на пользу пойдет».
Медицинский пункт расположился в той же хате, что и КП батальона, в большей ее половине. Всюду — на широкой печи, по украинскому обычаю щедро расписанной синими петухами и кудрявыми букетами, по лавкам, на полу, на соломе, на плащ-палатках и невесть откуда добытых пуховиках — лежали раненые. Их было много, больше всего — из роты погибшего Скорнякова.
Цибуля и Зина перебинтовывали солдат, накладывали лубки, хлопотливо готовя раненых к отправке в тыл.
Зине кто-то из раненых сообщил, что Ольги в роте после боя не оказалось — пропала без вести. Зина с тревогой сказала об этом Цибуле.
— Найдется! Такие девушки разве пропадают? — беззаботно усмехнулся тот.
— Тебе — хаханьки! — вспыхнула Зина. — Ты-то на передовую не пойдешь. Смелость не позволит!
Цибуля покраснел, как помидор. Он побаивался острого языка Зины.
Сейчас Зина попала Цибуле в самое уязвимое место. И он не мог сделать ничего другого, как только принять гордо-обиженный вид и сказать ей назидательным тоном:
— Я действую по инструкции. Где я нахожусь — мое дело, товарищ младший сержант!..
Зина метнула на Цибулю колючий взгляд, но ничего не сказала более: разговор приобрел уже официальный характер. Цибуля был какое ни на есть, но все-таки начальство, а с начальством пререкаться не полагалось.
Распахнулась дверь, и с улицы ворвался клуб пара. Лицо Зины мгновенно просветлело: на пороге, живая и невредимая, стояла Ольга.
— Откуда ты? — бросилась к ней Зина.
— С нейтралки.
— Да ну?
— Вот и ну, — улыбнулась Ольга, блестя глазами, в которых еще не улеглось волнение. По характеру она не была словоохотлива, но, видимо, только что пережитое, и пережитое впервые, так переполняло ее, что она не могла не рассказать о нем:
— Ночью я пятерых «тяжелых» вытащила с передовой к омету. Обработала всех. Один ходячий у меня был — послала его за санитарами. Да пропал он куда-то. Стрельба кругом. И наших уже не видать. Жду, а сама трясусь. Своим лежачим говорю: скоро санитары придут. А где там!.. Вдруг как застрекочет, как полетят трассирующие — совсем рядом. Мне один солдат кричит: «Пропадем, немцы!» Я всем командую: «Прячьтесь в солому, придется — отбивайтесь кто чем». Всех в омет позатолкала и сама туда. Слышу — мимо немцы бегут, стреляют. Я уж совсем обмерла. Потом тихо стало. Вылезла. Нет никого… Видать, наши немцев уже отогнали. Говорю своим больным: «Лежите, я за повозкой сбегаю». Есть повозка?..
— Сейчас подойдет, — сказал Цибуля, — обожди малость.
— Ладно, только недолго, а то мои там беспокоятся! Давайте, я вам помогу!
Ольга взяла карандаш и стала выписывать на раненых путевки в медсанбат. Она обрадовалась, когда, выписав все путевки и заглянув в корешки ранее выписанных, убедилась, что среди раненых нет ни одного из разведки. И тотчас же смутилась, поймав себя за эти дни уже не первый раз на мысли, что ее особенно беспокоит судьба Никиты Белых. Собственно говоря, кто он ей?..
На улице, за дверью, послышались голоса.
В хату вошел раскрасневшийся маленький связной и сердито крикнул:
— Раненого забирайте! — Он отер широким рукавом шинели лицо и добавил солидно: — Едва дотащили!
В хату внесли раненого. Это был Шахрай.
— А я опять до вас попал! — узнав Ольгу, Шахрай через силу улыбнулся: — Побили наших. И старшину тож…
— Ну, ну, старшина Белых не пропадет! — уверенно проговорил Цибуля.
Ольге хотелось поверить этим следам, но Шахрай сказал:
— Сам видел. Героем погиб.
Руки Ольги, поддерживавшие Шахрая, которому Цибуля прибинтовывал лубки, дрогнули. Цибуля внимательно посмотрел на нее и сказал:
— Держи крепче.
В его голосе слышалось даже сочувствие. Стараясь сдержать подступавшие слезы, Ольга тверже сжала пальцы.
Бересов пожелал осмотреть батальонные позиции. Гурьев сопровождал его. Выслушав приказания командира полка и распростившись с ним, Гурьев вернулся на свой КП. «Яковенко, наверное, остыл, — подумал он. — Надо зайти к нему».
Гурьев был в курсе всех батальонных дел, но ему хотелось посоветоваться с Яковенко по некоторым вопросам.
Как он и предполагал, Яковенко уже вернулся в хату. Капитан старался казаться приветливым, посадил Гурьева рядом с собой, но держался настороженно. Отвечал на расспросы кратко, сухо, сдержанно.
— Ну, вот теперь тебе все ясно. Командуй! — невесело улыбнувшись, сказал он под конец. — Начнется бой — можешь отличиться. Желаю успеха…
Гурьев ничего не ответил, только внимательно посмотрел на Яковенко. А тот, не выдержав, заговорил с обидой:
— Не думал я, что ты так новой должности обрадуешься. Ведь ты же не кадровый. Это мне всю жизнь погоны не снимать, так я свой путь определил. А тебе что? Кончится война — опять на «гражданку» пойдешь… Разве ты можешь понять, что это значит — командиру перед большим боем не у дел остаться… Что молчишь?..
— Извини… — встрепенулся Гурьев. И сказал просто и искренне, незаметно для себя перейдя на «ты»: — Не думал я об этом… О батальоне думал. Может, с утра в наступление пойдем… А насчет того, как после воины обернется, стоит ли сейчас говорить. И кто из нас кадровый, кто не кадровый, определится не только тем, сколько кому в армии прослужить придется.
— А чем же еще? — настороженно спросил Яковенко.
— Многим. Любовью к службе, умением нести ее, высоким чувством командирской ответственности…
— Знаю, слыхал про это… Только не до лекций мне сейчас.
Гурьев встал:
— Ну, я пойду.
— Давай, действуй, товарищ комбат.
Яковенко, передав командование Гурьеву, не пошел в госпиталь, несмотря на то, что рана давала себя знать. Втайне надеясь, что Бересов передумает и даст ему возможность оправдать себя на деле в предстоящем, бою за Комаровку, Яковенко остался на том же хуторке, где был командный пункт его батальона. После разговора с Гурьевым перебрался в дальнюю, стоявшую на отшибе, хату, которую не занимал никто. Там его в одиночестве и нашел под вечер Бобылев. С первой же минуты увидел он, как удручен Яковенко.
— Ехал бы ты в самом деле подлечиться! — посоветовал ему Николай Саввич.
— Не рука у меня болит… Обидно: за что меня Бересов гонит? Ну, поспешил я, доложил неточно, так сам же я ему признался в этом, тогда же! И наступал — по его приказу. Сам он сказал мне перед этим: «Молодец, жми!»
— Обидно? — переспросил Бобылев. — Неужто так-таки и не понял, в чем виноват?
— Нет.
— А ведь врешь! — Бобылев словно забыл про свою обычную деликатность и сдержанность. — Командиру полка врал, теперь — мне и себе врешь. Эх, Борис… — уже мягче сказал он. — И откуда это в тебе взялось — враньем загораживаться? Ведь его только слабачки щитом себе берут. А ты ж не слабачок!
Яковенко ничего не сказал, опустил глаза, хотя не в его характере было смолчать в ответ на резкое слово.
«Кажется, дошло…» — подумал Бобылев. И посоветовал: — Сходи к Бересову.
— Не пойду… Зачем идти? Чтобы опять прогнал?
— А ты подумай все же.
— Э, да что там!..
— Ну, смотри. Время подумать у тебя есть.
Бобылев счел за лучшее оставить Яковенко одного: самый высший судья и советчик человеку — его собственная совесть.