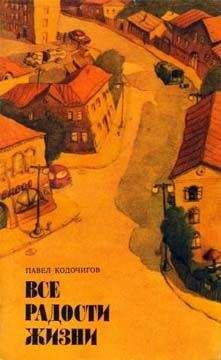* * *
На другое утро рота снова подходила к очередному хутору. После станции Пундуры ничего толкового не брали, одни хутора. И в лоб на них ходили, и обхваты устраивали, бывало, и стороной обходили, оставляли тем, кто позади идет. Надоели эти хутора до чертиков. И фрицы, что их защищали, и их «траншейная» тактика.
На этот хутор солдаты поглядывали с удивлением: уж больно вольготно вели себя фрицы. В битком набитой траншее как на курорте расположились: кто вшей бьет, кто загорает и никакой тебе бдительности.
Готовя атаку, Малышкин приказал Науменко выдвинуться на левый фланг и установить пулемет в просеке. Старый уж человек Науменко, за тридцать перевалило, две дочки растут, а змей боится, что дитя малое. Крикнет кто-нибудь: «Науменко, змея!» — драпанет так, что не догонишь.
На просеке трава вымахала в пояс. Стал ее Науменко сбивать, чтобы от змей уберечься и обзор расширить, и так увлекся, что, вроде немцев, бдительность потерял. А те заметили шевеление травы, стрельнули на всякий случай. Не удержался смертельно раненный пулеметчик, крикнул. Фрицы решили, что русская разведка перед ними, раненого можно в плен забрать. Кинулись к просеке кто в чем был.
— Подпустить ближе! Не стрелять! — тихо подал команду Малышкин.
Метров пятьдесят не успели добежать, тогда Малышкин дал первую очередь. Охотников срезали в мгновение ока. После этого фашисты и в траншее долго не задержались. Убежали кто в чем, иные и нательные рубашки не успели натянуть. К удивлению Малышкина, фрицы и хутор проскочили на рысях, дальше еще быстрее побежали. «Не демонстрируют ли паническое бегство, чтобы подвести роту под перекрестный огонь?» — забеспокоился капитан и придержал солдат, но немцы драпали не напрасно — слева густыми цепями наступала какая-то свежая, на диво многолюдная часть.
Малышкин опустил бинокль и начал постукивать кулаком по кулаку. Он всегда делал так при раздражении и досаде. Досадовать же, понимал Иванов, командиру роты было на что: фашисты укрепились на возвышенности, роте надо было сближаться с ними по низине. Обойти бы их и ударить с фланга, но там другие наступать должны, и хорошо, если поднимутся на взгорье вовремя. Скорее всего, соседи «припозднятся», и тогда неизвестно, сколько человек останется от только что пополненной роты. Чтобы сохранить людей, капитан чуть-чуть сманеврировал, послал их не прямо, а левее, по высохшему, заросшему камышом и осокой болоту. Это должно сократить потери, но намного ли?
За дни отдыха и формировки Малышкин отоспался. Светло-карие глаза его не портила воспаленная краснота, лицо было чисто выбрито, из-под воротника гимнастерки выглядывал белоснежный воротничок. Хорошо начищенные сапоги смотрелись почти новенькими. О них и о воротничке позаботился Иванов — с пополнением в роту прибыли сержанты и даже старшие сержанты, от былого отделения остался один он, и Малышкин взял его к себе ординарцем.
Рота шла по болоту, и по шевелению камышей было видно, что два взвода идут не параллельно, а расходятся в стороны.
— Потеряли ориентиры, черти, — постучал капитан правым кулаком по левому и приказал: — Беги соедини их, и пусть не теряют друг друга из виду.
— Есть, товарищ капитан!
Чтобы быстрее выполнить приказ, Иванов пошел не к болоту, а, спрямляя угол, двинулся сначала ржаным, потом картофельным полем. Пули засвистели над головой — бил пулемет — еще во ржи, а на картошке привязался снайпер. Рядом глубокая борозда, в ней можно с головой укрыться, но едва шевельнулся, почувствовал ветерок от пролетевшей мимо пули, за спиной раздался хлопок. «Засек, гад! Разрывными бьет!» — заныло в сердце. Втиснулся в борозду так, что каска надвинулась на глаза, нос уткнулся в землю и замер. Если бы возвращался к капитану после выполнения приказа, лежал бы долго, а теперь нельзя — не соединятся взводы, весь бой нарушится.
Чуть приподнялся, подтянул одну ногу и опять носом в землю от свиста близкой пули. «Следит! И следить будет, пока не убьет! Что делать-то?» Скосил глаза на болото. Одна перебежка до него. Вскочить и — в камыши, пусть там поищет. Гришка сам из снайперки не стрелял, но в руках держать приходилось. Знал, что ее прицел как подзорная труба, и там, на горе, снайпер только того и ждет, когда он приподнимется и побежит. Нельзя вскакивать, нельзя бежать, нельзя даже шевелиться. Надо ждать, когда у снайпера устанут глаза, когда он отвлечется.
На вытянутой руке автоматом шевельнул ботву. Не стрельнул! Еще раз сделал то же движение. Опять нет выстрела. Поверил, что прикончил, или ловит? Лучше еще повременить чуть-чуть, совсем немного — береженого бог бережет. Надо! Надо!
Обостренным опасностью слухом уловил редкие одиночные выстрелы, однако свиста пуль не услышал. Дождался следующих. Куда-то стреляет, но не по нему. Пополз. Осторожно, боясь шевельнуть верхушки ботвы. Всего ничего и прополз с несколькими остановками, а нырнул в осоку и стал ловить воздух широко раскрытым и пересохшим ртом.
Отдышался и вперед. Командира взвода нашел быстро. Передал приказ. Обратно пошел болотом. Скрытый от вражеских глаз высокой травой, шел вольно, радовался еще одному везению: по всем статьям выходило лежать ему мертвым или раненым, а он и приказ выполнил, и сам целехонек. И вообще молодец: от Острова почти до Балв дошел. Еще радовался и хвалил себя, а мина, выпущенная из немецкого миномета, уже достигла своей высшей точки, перевернулась и понеслась вниз. Она падала отвесно, почти на него, и он не услышал ни ее воя, ни даже тихого шуршания. Разорвалась, свалила наземь.
Очнулся сразу. В ушах знакомый звон. Кровь заливает ботинок. Стянул его и ахнул, не узнав искалеченной двумя осколками стопы. Кое-как перевязал раны и пополз в тыл.
На выходе из болота наткнулся на раненых. Кто-то стащил их сюда в кружок, потом сам попал под осколок или пулю. Увидев его, обрадовались:
— Ползи на КП, скажи, чтоб санитаров быстрее послали. Шевелись давай, на тебя вся надежда.
Дополз, о выполнении приказа доложил и просьбу раненых передал. С ними же на одной из подвод и дальше покатил. Отвоевался! В медсанбате задерживать не стали, перевязочку сделали и в госпиталь, в город Остров, откуда дивизия летнее наступление начинала.
В Острове же, где-то через месяц после ранения, на костылях уже не просто ходил, а по лестнице вверх и вниз через несколько ступенек прыгал, на ровном месте с одногодками в догонялки играл, его окликнули:
— Иванов? Ты?
Оглянулся — капитан Малышкин на него глаза щурит, сам в госпитальном халате, но без костылей, и руки целые. Шагнул навстречу, прижал к себе:
— Вот уж не думал тебя больше увидеть! Ногу, вижу, не ампутировали — это уже хорошо, — и выдал новость: — А немцы, знаешь, из Балв без боя драпанули. Держали нас, держали, столько людей побили — и преподнесли на блюдечке с каемочкой. Заминировали, правда, крепко. Старшина Фесенко ногу потерял. В общем, из старых никого в роте не осталось — я последний был. Ты-то как? Поправляешься?
— Прыгаю вот, — взмахнул Иванов костылями.
— Вижу, а почему у тебя на груди сияния нет? Посмотри — у каждого на халате не орден, так медаль. Ты почему не носишь?
— Так у меня нет ничего...
— Как это нет? — удивился Малышкин. — «За отвагу» разве не успел получить?
— Не-е-ет, — до корней волос покраснел Иванов, не ожидавший, что его могут представить к такой большой награде.
Малышкин хлопнул себя по лбу:
— Фу, черт, совсем забыл: приказ пришел через несколько дней после твоего ранения, но я тебя еще к Славе третьей степени представлял, за тех пулеметчиков... Идем ко мне, сделаем запрос, и пусть награды тебе в госпиталь высылают — ты еще долго здесь проваляешься.
Малышкин был рад неожиданной встрече с солдатом, об Иванове и говорить нечего. И награды, о которых не мечтал, грели душу, и дружеское отношение капитана, который уже не командиром роты виделся, а своим, близким человеком, каким были раньше дед Никифор и колхозный бригадир Матвей Иванович. Целый день провели вместе, разные, и горькие и смешные, случаи из ротной жизни вспоминали, погибших, особенно в последних боях, и, как недавно с Карпенко, даже о послевоенной жизни помечтали. По своим палатам разошлись после отбоя, а встретиться больше не пришлось: ночью Иванова и других раненых подняли и спешно, даже проститься с Малышкиным времени не нашлось, отправили в Псков, через некоторое время — в Порхов. А зачем возили туда и обратно, понять не мог. Видимо, были и на это какие-то соображения, а может, просто из-за бестолковщины.
К этому времени он уже с палочкой ходил и совершил один поступок, а вот добрый или совсем ненужный, решить не мог ни когда затевал, ни после окончания. Раздобыл одежду, военную, но без погон, чтобы на патруль не нарваться. В ней все вернувшиеся из госпиталей ходили да и те, кто в армии не бывал. Прикинул, что вполне может сойти за подростка: «Дяденька, какой я раненый? Я с крыши упал и ногу сломал».