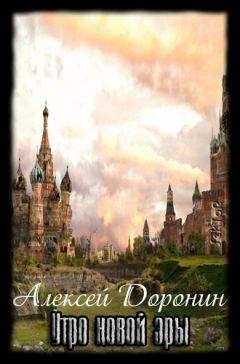Никто ни на кого не обращал внимания. Постепенно привыкла и четырнадцатилетняя девочка Вика.
Напротив ее сидела мама. Рядом с мамой какой-то маленький лысый мужчина фыркал, растирая мыло по лицу. Он сидел, широко расставив ноги. От этого Вике стало почему-то противно.
Себя она смогла помыть, когда лысый ушел.
Выступающие ребра. Опухшие животы. Острые локти. Обвисшие груди. Сморщенные лица. Вот там Вика и разглядела свои ноги — большие, неестественно толстые, синие какие-то. Ткни пальцем в нежное девичье бедро — остается белая-белая вмятина, которая постепенно наполняется ленивой кровью и расправляется…
И разговоры, разговоры… Где-то там выли сирены, грохотали разрывы. А тут разговоры. Одна тетка сетовала, что посадила картошку под Сестрорецком и что ее давно уже выкопали. А она дура, а муж ее вдвойне дурак, Царствие ему Небесное, как ушел в ополчение в сторону Луги так и не вернулся. Почему дурак? Так все уверял — войны, мол, не будет в этом году, а если и будет…
Когда они вышли из моечного в раздевалку, тот старик так и сидел, натянув кальсоны и рубашку. В руках его была зажата гимнастерка. Открытым ртом он уставился в потолок, с которого капала отпотевшая с помытых тел вода. Один зуб старика блестел золотом.
Они уже успели одеться, когда приехали похоронщики.
Больше Вика в баню не ходила. Она готова была дойти с ведром до Невы, но больше никогда-никогда не видеть страшных голых людей, совершенно не похожих на тех атлантов, держащих Эрмитаж.
А еще ноги оборачивали бумагой.
Бумага была большой ценностью. Если ты упадешь с ведром и опрокинешь воду на валенки — это верная смерть. Высушить их почти невозможно. Нужно сидеть около печки и смотреть, чтобы обувь не сгорела. Стоит уснуть — и все. Спасала как раз бумага. Газетная, оберточная, листовочная — любая. Когда немцы кидали листовки — ленинградцы радовались как дети. Листовками можно растопить буржуйку. Можно использовать… Ну… Когда идешь в отхожее ведро. Можно обмотать ногу бумагой вместо портянок. Ну и сушить обувь лучше, когда напихаешь ее внутрь на ночь.
Иллюзия тепла.
Весь Ленинград жил этой иллюзией тепла.
Когда тикает метроном. Когда Ольга Берггольц свои стихи читает. Когда стоишь в очереди или сидишь на уроках. Когда замерзает хлеб за пазухой и чернила в непроливашке. Все время кажется, что где-то совсем рядом у людей горит очаг, там тепло и светло, там стоит борщ на столе и котлеты на второе. Ведь и впрямь — счастье рядом. Как они с мамой радовались, когда наши начали наступление под Тихвиным и освободили его… Казалось вот-вот и наши освободят Ленинград! Освободят от голода и холода. И станет легче.
Почему-то стало еще тяжелее.
Сегодня хлеб давали.
Вика встала в конец очереди.
Теперь люди молчали в очередях.
До войны ленинградцы были не такими. Они были веселыми, смешливыми, порой легкомысленными.
Сделав уроки, Вика неслась во двор, шептаться со взрослеющими сверстницами и ругаться на бестолковых мальчишек, то и дело норовящих дернуть с косички в перерывах между своими штандерами.
Как только у папы выдавалось время, они обязательно шли в театр! Вике нравился этот свет, этот праздник, эта сцена, эти страсти! А в мае ее старшая сестра Юта завела роман с курсантом из Военно-Морской академии.
Он был высок, строен, черняв и остроумен. Вика очень-очень завидовала Юте. Когда в прошлом июне начались белые ночи, они, всей компанией, бывало, ходили гулять по ночному Ленинграду.
Ютин моряк брал гитару и пел романсы на Поцелуевом мосту.
Его друзья приглашали на танец Ютиных подруг.
Один раз на вальс пригласили и Вику. Ее плечи вздрагивали под сильными руками улыбчивого курсанта, который рассказывал ей о своем первом походе в море.
Мама потом ругалась на запоздавшую дочь. Папа усмехался в усы. А губы горели от первого поцелуя.
Юта умерла тридцать первого декабря сорок первого года.
А ее курсант ушел на фронт.
А тот, который поцеловал Вику первый раз — написал ей целых два раза. Последнее письмо было датировано сентябрем. Пришло оно в ноябре. Больше вестей не было.
Продавщица механически взяла деньги и отрезала два квадратика от карточек.
Потом завернула четверть буханки в серую бумагу и протянула Вике.
Девочка спрятала ее за пазуху. Бывали случаи, когда хлеб выдергивали прямо из рук в толчее очереди. Бывали, да…
А теперь долгий путь домой…
Долгий, потому что тяжело идти, держась за стены домов. А еще потому, что нужно бороться с искушением — хлеб!
Мама учила когда-то Вику — «Нельзя есть на ходу. Так поступают лишь животные и опустившиеся люди».
Мама была права.
Опустившиеся — умирали быстрее. Стоило позволить себе расслабиться — и человек моментально превращается в животное. В соседнем подъезде сошла с ума женщина. Она убила своих детей — трехлетнюю дочку и пятилетнего сына. Убила, чтобы жить на их детские карточки. Убила и сошла с ума. Она ходила по двору и кричала шепотливым хрипом: «Машенька! Петюня! Домой! Ужинать!» Карточки не спасли ее при артобстреле.
Артобстрел… Еще одно страшное слово. Впрочем, это слово претерпевало странные метаморфозы.
Первый раз оно было жутковатым, но интересным. Было непривычно сидеть в подвале, спешно переоборудованным под бомбоубежище. В тусклых лампах то накалялись, то угасали желтые ниточки электрического огня. Тряслись стены. От близких взрывов с потолка сыпалась старинная пыль. Старшие ругались, крестились, вскрикивали. А Вике было интересно.
Потом это слово стало страшным. Потом, это когда Вика вышла из убежища. В соседний дом попал немецкий снаряд. Из разбитых окон густо клубился дым, поднимаясь к пасмурному небу Ленинграда. Стены дома зияли дырами, бесстыдно распахнувшими внутренности прошлой жизни. Суетились пожарные, разматывая кишки шлангов. И молчаливая толпа жильцов обреченно стояла возле бывшего своего дома. Куда они пойдут? Но мама не ответила, пряча взгляд. И Вика стала бояться. Не смерти, нет. Не грохота. Не трясущихся стен.
Она боялась прийти к дому, которого больше нет. Боялась стоять и смотреть на огонь, сжирающий твой дом. Боялась превратиться в статую, исполненную молчаливым отчаянием.
А потом слово «артобстрел» стало привычным. Как неизбежная деталь жизненного пейзажа. К тому времени ленинградцы уже научились переходить на безопасную сторону, определять районы, по которым будут бить педантичные гитлеровцы. Ленинградцы выучили военное расписание смерти не хуже довоенного расписания трамваев.
А вот и двор…
Снова карабкаться по леднику подъезда, вцепляясь варежками в заиндевелые стены.
Страшно стучало сердце. Темнело в глазах. Острые иголки кололи изнутри по коже ладоней.
Главное — не поскользнуться. Поскользнешься — не встанешь. Ляжешь — умрешь. А умирать нельзя! Потому что только глупый человек может умереть, когда у него за пазухой целых двести пятьдесят грамм хлеба. Настоящего хлеба! Ну и пусть, что там жмых и целлюлоза. Главное — это хлеб.
В квартире — пусто. Мама так и лежит в кровати, скорбно приоткрыв рот.
Вика тщательно закрыла дверь в комнату.
Снова растопила буржуйку. Снова поставила греться воду.
И только потом достала хлеб, непроизвольно сглотнув слюну. Разрезала кирпичик на две части. Одну она скушает сейчас. Вторую оставит до вечера и разделит еще на две части. Вот тебе ужин, а вот тебе завтрак.
Вика покосилась на маму. Вдруг девочке, почему-то, стало стыдно, словно отобрала этот кусочек жизни у мамы.
Вот она лежит. Глаза ее закрыты, а рот открыт. Словно она просит хлеба. В какой-то момент Вике вдруг подумалось, что мама не умерла, а просто потеряла сознание, и если ей сейчас дать хлеба, то мама непременно проснется! Конечно же! Она просто не может проснуться! У нее просто нет сил, чтобы проснуться! Вика схватила обеденный кусок и на четвереньках поползла к кровати. Потом вскарабкалась на постель и легла рядом с мамой. Откусила сама кусочек, остальное ткнула маме в синегубый рот.
— Кушай, мамочка! Кушай!
Но мама упрямо не хотела брать хлеб из рук дочери.
«Какая же я дура!» — сердито и отчаянно подумала Вика. «Она же спит! А раз спит, она же не может жевать!»
Вика откусила еще кусочек и начала жевать промерзлый хлеб. Не удержалась и проглотила жидкую кашицу, мгновенно провалившуюся в ненасытные глубины тела. Еще раз откусила…
Потом выплюнула — Боже, сколько усилий надо приложить к тому, что бы выплюнуть хлеб! — разжеванную массу в узкую свою ладошку и осторожно поднесла к лицу мамы. Потом тягучей струйкой влила жизнетворящую густоту в ее рот.
После чего свернулась клубком и обняла маму, ткнувшись ей под бочок.
Девочка грызла хлеб, дожидаясь — когда мама проснется.