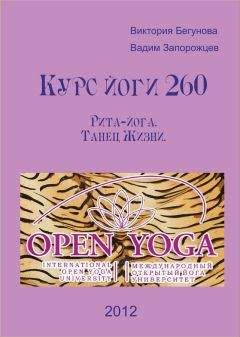Бесформенные тёмные пятна снова поплыли перед глазами. «Дождусь вместе с ними, когда можно будет вернуться домой, вместе и вернёмся», — подумала Зойка, стараясь усилием воли разорвать чёрную завесу и унять дрожь.
Она медленно шла по коридору, надеясь, что движение поможет ей удержаться, не свалиться в «бездну». Навстречу ей, слегка пошатываясь, шла не то девочка, не то старушка, сразу и не разберёшь. Как видно, кто-то из местных. Она была черна и согнута, как засохший стручок акации. Пёстрый сарафан болтался на тонкой фигурке, длинные волосы спускались на плечи. Зойка подошла к ней уже совсем близко и увидела расширенные, словно удивлённые глаза с огромными зрачками, пристально глядящие в одну точку: на неё, на Зойку.
Это лицо было ей чем-то знакомо. Зойка остановилась, напрягая мозг, пыталась вспомнить, где могла его видеть. Пожалуй, это не старушка, а девочка. Она тоже остановилась. Но почему у неё такие странные глаза и белые волосы? Ах, вот что, это седина. Три широкие пряди охватывают почти всю голову. Так всё же — старушка. Но что это с головой? Она сейчас разорвётся на части. Опять в висках застрекотали сотни цикад.
Зойка подняла руки к вискам, сжала голову, и та, в пёстром сарафане, сделала то же самое! Зойка приподняла руками волосы, всматриваясь в такое мучительно знакомое лицо, и вдруг поняла: зеркало! Она видит себя в зеркале. Се-бя? Безмерный ужас охватил её.
— Нет, нет, — прошептала она, качая головой, и зеркало тотчас отразило и этот ужас, и покачивание головы, и странный взгляд.
— Не-е-т! — закричала Зойка. — Нет! Нет! Нет!
Тёмные рваные пятна, наползая друг на друга, сомкнулись в плотный чёрный круг. Зойка рухнула на пол, потеряв сознание.
Она увидела рыжие солнечные блики на белой стене и поняла, что наступило утро: было всё время темно, а теперь светло. Над ней склонилась аккуратная головка в белой шапочке.
— Как самочувствие? — и улыбка озарила миловидное лицо.
Зойка пристально смотрела на девушку, вспоминая, кто она.
— Степан Егорович, — позвала девушка. — Больная проснулась.
«Больная? — удивлённо подумала Зойка. — Это обо мне?» Степан Егорович тотчас явился. Он был большой и добродушный. Зойка смотрела на него несколько секунд, а потом отчётливо вспомнила, что уже видела и его, и девушку. Вот только где? Да, наверное, здесь же, раз она в больнице. Кто они такие? В белых халатах и улыбаются. А-а-а, врачи, ведь она лежит в больнице. В больнице?
Зойка всё ещё недоумевала, когда Степан Егорович, улыбаясь, не проговорил, а почти пропел с украинским акцентом:
— Добрэнького утрэчка! А то совсем заспалась дивчина. Как самочувствие?
— Хорошо, — неуверенно ответила Зойка.
— И сам вижу, что хорошо, но бегать еще рано. Посидеть немного в кровати можно, а вставать — ни-ни!
Похлопав ободряюще Зойку по руке, доктор вышел. Зойка пыталась понять, что с ней произошло, но не могла толком ничего вспомнить. Память только сохранила постоянное ощущение страшной тяжести и такую темноту вокруг, в которой ничего нельзя было рассмотреть. Сегодня впервые пришло ощущение покоя, и Зойка стала припоминать, что до больницы у неё была какая-то жизнь, и в этой жизни были другие люди. Но какие? Она прикрыла глаза, вспоминая. Сначала ей не удавалось вспомнить ничего, но потом почему-то представились рельсы. Длинные, бесконечные рельсы, затем — море и тонкие детские ручонки, протягивающие ей маленькую жестяную баночку, полную воды. Зачем? Она совсем не хочет пить. Зачем ей принесли воду, да ещё в проржавевшей баночке? И кто принёс? Детские руки… Дети, дети… Дети! У неё были дети! Много детей! Где дети? Эта отчетливая мысль молнией пронизала Зойкино сознание, и она почти крикнула:
— Где дети?
Медсестра удивлённо повернулась к Зойке, но моментально справилась с удивлением и мягко ответила:
— В детском доме. Разве ты не помнишь?
Грянул оркестр, затарахтели моторные лодки, и на столах появились горы белого хлеба… Да, да, она вспомнила. Она привела детей к людям. Они все живы и здоровы. Значит, где-то здесь, рядом с ней, и она может их увидеть.
— Ко мне никто не приходил? — с надеждой спросила Зойка.
— Приходили, — успокаивающе ответила медсестра, — часто приходили. Ребята из детдома.
— А почему я никого не видела? Их не пустили?
— Как же можно было пустить? В изолятор никого не пускают. Да и смысла не было. Ты же почти всё время, — медсестра поискала слово и, явно чего-то не договаривая, сказала: — Без сознания всё время… И ногу чуть не отрезали, рана такая запущенная. Да Степан Егорович отстоял.
Зойка судорожно ощупала ноги — обе на месте. Медсестра улыбнулась:
— Считай, что счастливо отделалась. Ещё месяца два, и выпишут.
— А сколько я здесь?
— Четыре месяца.
— Четыре? — Зойка обдумывала следующий вопрос, с удивлением глядя на медсестру. — И… всё время без сознания?
Медсестра ответила, стараясь не смотреть на Зойку:
— Иногда приходила в себя, но так кричала и вскакивала, что всё равно бы никого не узнала. Приходилось делать укол. В общем, тяжёлая была, а сейчас ничего, на поправку пойдёшь.
Зойка задумалась: интересно, как там дети без неё? Приходили. Значит, помнят её, беспокоятся.
— А теперь, когда придут, пустите их, пожалуйста, — попросила Зойка, — уже можно.
Медсестра помолчала, словно обдумывая, сказать или не сказать, и, наконец, решилась:
— Они не придут. Их подкормили, подлечили и отправили дальше. У вас направление-то было в Фергану. А здесь теперь другие.
— Не может быть…
Зойка почувствовала, как сильно дрожат у неё губы.
— Они приходили попрощаться, да пустить было нельзя, — вздохнула медсестра.
Зойка откинулась на подушку. Она почувствовала себя беспредельно обездоленной, осиротевшей. Пройти самое страшное вместе и вот так неожиданно разлучиться. А может, так и должно быть? Она им теперь не нужна. Есть другие люди, которые вырастят их и выпустят в самостоятельную жизнь. А у неё своя дорога. Рано или поздно всё равно пришлось бы расстаться. Таков закон жизни: птицы улетают из гнезда, когда у них окрепнут крылья.
Зойка подумала о доме. Как давно она ничего о нём не знает! Что с мамой, Юркой, бабушкой? И вдруг так захотелось туда, на их тихую зеленую улицу. Но когда ещё освободят их город! Это зависит от того, каковы наши успехи на фронте.
— Как дела на фронте? — спросила Зойка медсестру.
— На фронте? — удивилась та.
— Да, на фронте.
— Ну, полный разгром немцев под Сталинградом, это ты знаешь.
— Под Сталинградом?
— Ах, да, откуда же тебе знать? Да, полный разгром! Их погнали назад.
— А наш край не освободили?
— Освободили. Ещё в январе.
— А сейчас что?
— Февраль уже кончается.
— Февраль… кончается.
Вот, оказывается, как много времени прошло, и она ничего не знает о родных, а они о ней. Зойка старалась представить свой дом и почему-то не могла. Яснее всего в памяти обозначался куст сирени, растущий у крыльца. Теперь, по крайней мере, она может написать домой.
И вдруг ей стало страшно: а если дома нет? Если никого уже нет в живых? Нет, сейчас ей этого не вынести. Лучше подождать. Она вообще не станет писать. Просто сядет в поезд и будет долго-долго ехать и думать о встрече с домом.
Зойка попыталась подняться и сесть в постели. Самой ей было трудно это сделать, но медсестра уже стояла рядом и подкладывала ей под спину подушку. Теперь из окна палаты был виден больничный двор, обрамлённый невысокими кустиками. Совсем молоденький паренёк в военной шинели быстро пересекал двор и, поминутно оборачиваясь, махал кому-то рукой.
У Зойки сжалось сердце. Целую вечность она ничего не знает о Лёне! Два месяца в пути, уже четыре — в больнице. Это полгода. Значит, сейчас февраль 1943 года, а последнее письмо от него она получила ещё в конце июля. Полгода прошли, как долгая и трудная жизнь.
Она попросит бумагу, карандаш и напишет ему. Только с чего начать и как описать всё, что с ней приключилось за это время? Как написать ему о своей болезни? И вдруг её пронзила острая мысль: да имеет ли она право писать Лёне сейчас? Девочка, которую он знал прежде, была здорова, имела ясный ум. А теперь в больничной кровати сидит непонятное существо с седыми волосами и слишком пристальным взглядом, в глубине которого гнездится мучительная болезнь. Сейчас она это хорошо осознавала, вспомнив тот взгляд в зеркале, так испугавший её. Лёня очень великодушен, он не откажется от неё. Но разве хоть когда-нибудь великодушие могло заменить настоящую любовь? Нет, надо подождать, может, болезнь отступит. Ей уже лучше. Зойке страшно захотелось увидеть себя. Испугается опять или выдержит?
— У вас есть зеркало? — спросила она медсестру.
— Ну вот, значит, выздоравливаешь, — засмеялась медсестра и достала из тумбочки крошечное зеркальце.