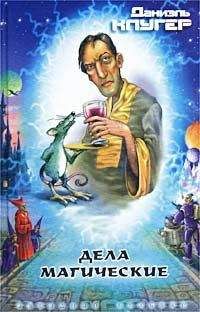— Да, — сказал я. — Кажется, я вспомнил. Он произнес странную фразу. Он спросил — кто эти люди… Там ожидали приема несколько новичков. И когда я сказал — из Франции, он засмеялся и спросил: «Да? Из Франции? А из России у вас, случайно, никого нет?» Примерно так. А потом снова засмеялся и сказал, что это шутка.
— Вот как… — протянул Холберг. — Снова новенькие. Что бы это могло значить, Вайсфельд? Я имею в виду его слова о России. Как вы думаете?
— Не знаю, — ответил я. — Может быть, он имел в виду широту охвата. От Франции до России. От Запада до Востока. Знаете, художественная натура.
Холберг промычал что-то невразумительное, судя по интонации — выражая таким образом согласие с моим мнением. Его острый птичий профиль вырисовывался на фоне подсвеченного прожектора темно-багрового неба, словно вырезанный из картона и окрашенный черной краской персонаж индонезийского театра теней. Во время пребывания моего на Востоке мне пару раз довелось видеть представления такого театра. И я вспомнил еще, что характер перехода линии носа в линию лба на силуэте определял свойства персонажа для зрителей: если нос удлиненный, аристократичный и составляет с линий лба одну линию, — персонаж героический и, безусловно, положительный. Если же указанные линии соединяются под углом — персонаж отрицательный. Возможно даже демон.
Линия носа моего соседа действительно почти продолжала линию лба, и значит, в соответствии с эстетикой индонезийского театра, он мог быть только положительным героем, вышедшим на схватку с демонами.
В сердце каждого взрослого живет ребенок. И я не составляю в данном случае исключения, ибо меня успокоило это наблюдение. Настолько, что недавние подозрения стерлись из памяти, словно их и не было.
Я продолжал разглядывать Холберга. Он на миг поднял руку и протер глаза, напомнив давешнюю свою жалобу на периодическую боль и воспаление.
— Ваши глаза, — сказал я. — Они у вас действительно больны? Или вам нужен был повод задержаться в моем кабинете?
— Повод? — черный силуэт даже не дрогнул. — Вовсе нет. У меня действительно болят глаза. Последствия давней контузии, заработанной мною на Западном фронте в ноябре шестнадцатого года. На Сомме… — по интонации мне показалось, что он улыбнулся. — Кстати, вы знаете, Вайсфельд, что там же и тогда же был ранен фюрер? Наши роты соседствовали. Я был знаком с его командиром. Может быть я ошибаюсь, но, по-моему, мы даже встречались сразу после войны на каком-то собрании бывших фронтовиков… Да, а моя болезнь усугубилась в последние годы. Бродяжничество не способствует здоровью, хотя некоторые романтически настроенные личности завидуют, например, цыганам.
— В наше время даже романтики вряд ли позавидуют цыганам, — заметил я. — Удел, уготованный им нацистами, ничем не отличается от еврейского.
— Да. Верно… Знаете, я ведь был арестован вместе с остатками одного цыганского табора. Я, видите ли, в своих странствиях добрался аж до Румынии. И какое-то время жил в Трансильвании. Вместе с теми самыми цыганами прятался в развалинах какого-то средневекового замка в Тимешоарах. Местные крестьяне говорили, что это замок Влада Цепеша — самого графа Дракулы, знаменитого вампира. Большую часть времени я скрывался в подземелье, выходил только в сумерках, а чаще — по ночам. Так что глаза мои привыкли к ночной тьме и отвыкли от дневного света. Впрочем, я и прежде не любил светлое время суток. После контузии мне долго пришлось носить дымчатые очки, которые меня изрядно раздражали. А снимать я их мог только в сумерках. Вот я и разлюбил день. Зато ночью я порою мог обходиться без освещения. Да и сейчас могу. Это весьма пригодилось в бытность мою полицейским…
— А что же Тимешоары? — напомнил я. — Что произошло с теми цыганами, которых арестовали вместе с вами?
— Их отправили в Берген-Бельзен, — ответил он. — А меня — сюда, в Брокенвальд. По причине… Впрочем, это уже другая история. Когда-нибудь я вам ее расскажу… Знаете, доктор, — он повернулся ко мне, я видел, как в красноватом зареве на мгновение странно блеснули его глаза, — никто из цыган, среди которых я тогда оказался, ни разу не спросил меня, кто я такой. И это, наверное, хорошо: ведь полицейский для них всегда враг, даже если судьба поставила их по одну сторону. Ко мне они относились с некоторым суеверием. Причиной которого, кстати, было мое умение видеть в темноте. Не удивлюсь, если они меня самого отождествили с легендарным хозяином замка… — он негромко рассмеялся. — Представляете — знаменитый вампир вместе с транспортом цыган оказывается в лагере Берген-Бельзен. И начинает действовать в соответствии со своими привычками. Как вы полагаете, останется ли он для нас воплощением зла, если его жертвами станут эсэсовцы?.. Все относительно, — пробормотал он, поднимаясь с ящика и укладываясь на свой матрас. — Все относительно. Спокойной ночи, Вайсфельд.
Утром Холберг, старательно проделав весь комплекс своих китайских упражнений и дыхательной гимнастики, вернулся на чердак. Я же отправился на работу, пребывая в некоторой растерянности. Мне никак не удавалось нащупать зацепку в деле об убийстве Макса Ландау, которая помогла бы вывести нас с моим другом на преступника. Столь соблазнительная на первый взгляд история с морфином разрешилась вполне — разговором Холберга с госпожой Зильбер в ней была поставлена точка. Никто из тех, кто соприкасался с убитым в последние дни, похоже, не имел отношения к его убийству. Я перебирал в уме все имена — начиная с председателя Юденрата Генриха Шефтеля и заканчивая моей помощницей Луизой Бротман.
Вчерашний разговор с Холбергом о странностях поведения режиссера придал моим мыслям новое направление. Я то и дело обращался к последним встречам с г-ном Ландау, пытаясь до мельчайших деталей вспомнить его слова и даже жесты. Вот мы стоим у ящиков на кухонном блоке… Вот он вбегает в кабинет с гневным выражением лица… Вот, уже с другим выражением, он в коридоре вручает мне пригласительный билет …
Долго предаваться размышлениям мне не удалось. Улицы гетто не очень приспособлены для отвлеченных мысленных упражнений — потому хотя бы, что всегда полны народу. Особенно в будние дни по утрам. Большинство моих сограждан торопливо шли в направлении кухонного блока, меньший поток двигался навстречу. Некоторые неподвижно сидели и стояли вдоль серых стен — то ли ожидая чего-то, то ли просто не имея сил для ходьбы. Все это напоминало хаотическое броуновское движение молекул и атомов. Причем не только своей непрерывностью, но и кажущейся безрезультативностью: у стороннего наблюдателя должно было сложиться устойчивое впечатление о мнимости движения и об истинной неподвижности всех частиц-людей. Если прибавить к этому удивительную похожесть лиц — вне зависимости от пола и возраста стертых примерно в равной степени, если прибавить общность их выражений и в равной степени сношенную, тусклую выцветшую одежду, сравнение с единообразными молекулами, беспорядочно снующими в разных направлениях и остающимися, по сути, в неподвижности, не казалось плодом чрезмерной фантазии.
Плотность человеческого потока, по мере продвижения моего к медицинскому блоку, возрастала, что заставило меня, по крайней мере, временно, окончательно забыть об убийстве режиссера Макса Ландау и сосредоточиться на лавировании среди встречных.
С самого пробуждения я чувствовал легкое головокружение, причиной которого могла быть слабая толика никотина, содержавшаяся в выкуренной вчера эрзац-сигаре. От калейдоскопа прыгающих лиц и странного смешения запахов головокружение усилилось, так что на углу улиц Галки и Скворечни мне пришлось остановиться и прислониться к стене.
Здесь меня неожиданно нагнал Шимон Холберг.
— Что с вами? — встревожено спросил он. — Вы очень бледны. Боюсь, это моя вина — вам не следовало вчера курить. После большого перерыва, да еще при регулярном недоедании… — он покачал головой. — Давайте-ка, доктор, я вас провожу.
Для меня его появление было большим облегчением. Я действительно чувствовал себя скверно — к головокружению прибавилась общая слабость. Тем не менее, я сделал слабую попытку обойтись без его помощи.
— Вы как будто собирались остаться дома, — сказал я. — Передумали? Если это связано со мной, не стоит беспокоиться, Холберг. Я вполне дойду до службы самостоятельно.
— Ничего, все в порядке, доктор, — Холберг улыбнулся. — Я изрядный эгоист, так что из нашей совместной прогулки надеюсь извлечь максимум пользы для расследования. Пойдемте. Если вам действительно тяжело, можете опереться на мою руку.
Мы продолжили путь вместе, причем — странное дело — несмотря на то, что вдвоем мы занимали на тротуаре больше пространства, чем я один, встречные задевали нас гораздо реже.