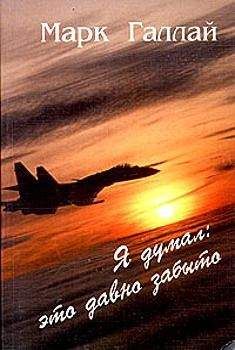Когда причина происшествия установлена, надо назвать конкретного виновника (иногда этого требуют даже в тех случаях, когда причина происшествия не установлена). А это не всегда легко — проблема перестаёт быть абстрактно технической и начинает задевать (порой очень чувствительно!) живые интересы живых людей. С этой тонкой этическо-дипломатической проблемой я столкнулся в первой же аварийной комиссии, в состав которой попал, можно сказать, на заре своей испытательской деятельности.
Отдел лётных испытаний ЦАГИ перебазировался на новый, специально построенный для него аэродром — просторный, удобный, с широкими бетонированными взлётно-посадочными полосами и даже омывающей его с одной стороны рекой, в которую можно было бегать купаться между полётами — почти «без отрыва от производства».
Все было очень хорошо на новом месте, но его — на то оно и новое — приходилось осваивать. Для лётчика это означало прежде всего детально, до последних мелочей, изучить район аэродрома, начиная с ближайших подходов. На одном из таких подходов с нашим новым лётным полем вплотную граничило яркое жёлтое пятно свежей песчаной разработки.
В один прекрасный день вдоль границы аэродрома в этом месте, ничего не сообщив нам, установили столбы для будущей телефонной линии.
Только что отёсанные, не успевшие потемнеть деревянные столбы с воздуха были совершенно незаметны — они терялись на фоне такого же золотисто-жёлтого песка.
Первым убедиться в факте их существования довелось Г.М. Шиянову — впоследствии одному из виднейших советских испытателей, но в то время ещё совсем молодому, ненамного менее зеленому, чем я, лётчику.
Заходя на посадку на истребителе И-153, он перед самой землёй, на выравнивании почувствовал резкий удар, от которого вся машина вздрогнула, качнулась и была удержана в повиновении только благодаря энергичным действиям лётчика. Причина этого удара тут же выяснилась — концом правого нижнего крыла самолёт задел за злополучный столб. Правда, с посадкой повреждённого истребителя Шиянов справился отлично, и дело обошлось несравненно благополучнее, чем могло бы.
Но самолёт так или иначе оказался повреждённым, и в согласии с действующими на сей счёт положениями приходилось назначать аварийную комиссию. Председателем её утвердили Александра Петровича Чернавского, а членами — инженера по эксплуатации Николая Петровича Сувирова и меня.
Особенно копаться в исследовании прямых и косвенных причин происшествия высокой комиссии не пришлось: и те и другие были очевидны. Сложности начались, когда дело дошло до составления аварийного акта и, в частности, того его пункта, в котором должен быть указан конкретный виновник происшествия.
По существу, конечно, виноват был человек, распорядившийся установить эти чёртовы столбы в столь неподходящем для них месте. Но указать этого человека в графе «Конкретный виновник» мы не могли хотя бы потому, что обнаружить, кто именно отдал такое приказание, так и не удалось. Ещё меньше хотелось нам загонять в эту графу Юру Шиянова! Конечно, мы понимали, что столба он не заметил. Но его не заметил бы, наверное, никто из нас. Разглядеть перед самой землёй жёлтый столб на фоне жёлтого же песка не так просто. Да и не должен был торчать этот проклятый столб в полосе подхода у самой границы лётного поля!
И мы придумали, как нам казалось, совершенно гениальный дипломатический ход. В графе «Конкретный виновник» было записано: «Нисходящий поток воздуха»…
Добрых два года — до самого начала войны — преследовал меня потом этот нисходящий поток! Редкое собрание обходилось без упоминания моей скромной персоны как глубоко погрязшей в гнилом либерализме, кумовстве, беспринципности и прочих грехах, только из-за которых, оказывается, и не удавалось до той поры нашему славному коллективу покончить с аварийностью! Что говорить, если отвлечься от формы этих упрёков и завидного постоянства, с которым они длительное время произносились, основания для них, конечно, были. Нисходящий поток мы оклеветали зря.
Но назвать конкретно виновника происшествия сплошь и рядом бывает, независимо от дополнительных психологических обстоятельств, действительно очень трудно.
Разбиралась как-то авария одного истребителя. Когда дело дошло до деликатных пунктов распределения персональной ответственности, председатель комиссии, неуютно поёжившись, предложил:
— Ну что ж, приступим, как говорил Остап Бендер, к материализации духов и раздаче слонов?..
— А чего тут особенно материализовать и раздавать? — бросил в ответ на это самый бойкий (хотя вряд ли самый вдумчивый) из присутствующих. — Дело ясное: ошибка в пилотировании!..
«Ошибка в пилотировании…» А что это, в сущности, такое? Все мы отлично знаем, что такое арифметическая ошибка: так сказать, дважды два — пять. Приблизительно представляем себе сущность ошибки сапёра, который, как известно, ошибается один раз в жизни. Довольно уверенно судим о житейских ошибках (правда, преимущественно не о собственных, а совершаемых другими людьми): от оценки прогноза погоды на завтра до выбора достойного спутника жизни.
Но что же такое ошибка лётчика?
Не следует думать, что она представляет собой просто неверный выбор одного из двух возможных вариантов действия. Скажем, полет в одном направлении вместо другого или перекладка рычага уборки шасси, когда нужно было бы взяться за рычаг уборки закрылков.
Бывают, конечно, у лётчиков и такие ошибки, но очень редко. Не они делают погоду в длинном перечне аварийных происшествий, отнесённых к этой удобной графе.
Гораздо чаще так называемая ошибка пилотирования заключается совсем в другом.
Известно, что точность — категория сугубо относительная. Абсолютная точность нигде — ни в быту, ни в науке, ни в технике — недостижима. В каждом отдельном случае речь может идти лишь о величине допустимой ошибки, в пределах которой мы полагаем нужную степень точности соблюдённой. Мы считаем, что пришли в назначенное место точно вовремя, если опоздали, скажем, на несколько секунд, и говорим, что стали точно на середине комнаты, даже если отклонились от этой середины на несколько миллиметров. Никому не придёт в голову требовать от печника той же точности, что от часовщика.
Итак, все дело в том, какой величины ошибка может быть допущена без ущерба для результата дела. И конечно, в том, насколько способен человек (или машина — все сказанное может быть с полным правом отнесено и к ней) удержаться в пределах реально осуществимой «полосы» допустимых ошибок, которые мы поэтому как бы и не считаем ошибками. Лишь с выходом за пределы этой «полосы» начинается ошибка в обычном, нематематическом смысле этого слова.
Объяснять все это на аварийной комиссии было бы чересчур долго. Вместо этого один из её членов — сам лётчик-испытатель — просто спросил:
— Ошибка пилотирования? А в чем конкретно она выразилась?
— Как в чем? В инструкции ясно сказано, что лётчик не должен допускать кренов, превышающих…
— Хотите, я вам напишу инструкцию, как ходить в цирке по канату? Для этого всего только и надо, что держать центр тяжести вашего тела в вертикальной плоскости, проходящей через натянутый канат. Вот напишу так и пошлю вас в цирк: извольте-ка, ходите! А если упадёте, скажу, что сами нарушили инструкцию. В ней ведь «ясно сказано»…
И вопрос был решён: в акте комиссии указывалось на чрезмерную «строгость» аппарата и необходимость упрощения техники его пилотирования. Об ошибке пилота не было ни слова.
Но катастрофа М.К. Байкалова столь жарких дебатов не вызвала. Спорить было не о чем. Лётчика винить явно не приходилось. Причина несчастья заключалась в разрушении вала рулевого винта.
Вся история разрушения была буквально написана в месте излома. Вот чернеет первопричина беды — маленькое, почти точечное разрушение материала. От него в обе стороны по сечению трещины отходят первые, уже успевшие потемнеть её участки. Затем, как бы ступеньками, идут все более светлые следы её дальнейшего распространения и, наконец, совсем белый свежий излом — разрушение тонкой перемычки, на которой до последнего момента держался вал.
Гибель подстерегала этот вертолёт с самого начала.
Никто не мог бы предсказать, на каком полёте это произойдёт: первом, десятом, сороковом, сотом?
Это произошло на сто седьмом…
В наши дни подобная катастрофа практически невозможна — современные методы дефектоскопии надёжно гарантируют это.
Да и тогда — стоило валу, уже выдержавшему многие часы работы, дотерпеть ещё хотя бы несколько десятков секунд, оставшихся до приземления, и все обошлось бы благополучно. Вал, конечно, так или иначе неминуемо должен был лопнуть, но случилось бы это на земле, от ударной нагрузки в момент следующего запуска. Катастрофа не состоялась бы.
* * *
А вертолёт выжил. Конечно, не тот самый экземпляр, который разбился в этот несчастливый день, а его многочисленные собратья, или, если хотите, потомки — серийные машины Ми-1, многие годы летавшие в наших Военно-Воздушных Силах, в гражданской авиации, даже в аэроклубах.