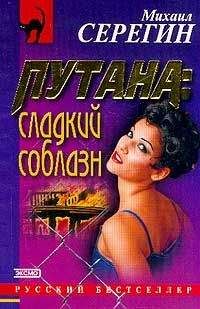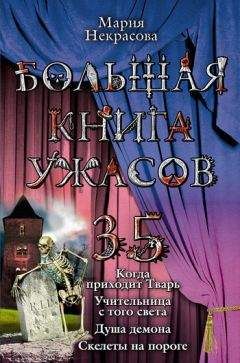Он?
— Слышь, большевик! Наш храбрец гнался за тобой, и ты прострелил ему ногу.
— Я не большевик. И не бежал. И не стрелял.
— А я говорю — большевик! И бежал! И стрелял. А чтобы не околел раньше времени и мог все это подтвердить, так и быть, накрою тебя.
Он вытащил из-под своих ног пучок сена и кинул ему в лицо.
— Казимир, а Казимир. А что, если того, второго, я пристрелил? А я за это вам обоим еще по бутылю поставлю.
— Тоже чина захотел? Не было второго. Понял? Один был, этот.
Если они будут отрицать, что был второй, как же он тогда объяснит, куда делись его документы?
— А уж от девок, Стаська, тебе отбоя не будет. Раз большевика, истекая кровью, повалил, то уж их…
Не будет он повторять их выдумки. Не будет — и все! Он — Збигнев Витульский. Шел в деревню.
Вдруг он увидел домики! Куда они въезжают? Но приподняться нельзя, — Казимир, будь он проклят, не отводит от него своего пистолета.
Фонарный столб. Значит, это городок. Еще один столб. Лампочки.
Это, точно, городок, — в деревне домики не стоят так близко друг к другу. И стало трясти, значит, под снегом булыжник. Да, явно булыжник. А вот и двухэтажный дом. Но только один. Потом опять маленькие, с крылечками.
Надо запомнить дорогу. На этом доме створка левой ставни висит на одной петле. Нет, это не примета. Хозяин привинтит ее, и ставня будет такая же, как все. На крыше два чердачных оконца. И в заборе не хватает доски. Опять двухэтажный дом. Даже каменный.
— Тпруу…
Уже?! Что в этом доме?
— Лежи, гнида!
Он только чуть приподнял голову, чтобы увидеть, что там.
Казимир соскочил с саней и пошел к тому дому. Но вывеску отсюда не разглядеть.
— Ну, хватит разлеживаться! Бери Стасюка за плечи, понесем.
Но он не может нести! Даже стоять не может.
— Кому сказано? Бери Стасюка за плечи!
Он бы взял. Руки не гнутся!
— Пули захотел? А ну!
— Сейчас. Сейчас…
— То-то! Еще скажи спасибо, что помогаю нести. Потащил бы один на своем большевистском горбу, знал бы, как в наших стрелять.
Не дойти. До крыльца ни за что не дойти. И руки не удержат, уж очень тяжелый этот их Стаська.
— Ты что это, большевистская вошь, Стасюка опускаешь? Выше подыми! А то враз башку снесу. Хочешь, Стасюк, покажу тебе, как сверну ему шею?
— Иди ты знаешь куда?
— Ну не сердись. Мы ж договорились! Я тебе — свинью и две бутыли, а ты — что это он тебя ранил. Слышь, комиссар, не забудь по-вашему, по-большевистски побожиться.
Не будет он божиться. Не будет.
Ноги не отморожены, раз болят. И руки болят. Значит, тоже не отморожены.
Почему Казимир так быстро вышел?
— Ты что, мазила, спятил? Зачем Стаську тащишь? Его к доктору надо, а не сюда. А ну, несите обратно!
Как видно, здесь полицейский участок. И этот бандюга Казимир уже доложил о том, что поймал коммуниста. И что это он ранил Стасюка.
Не дождутся. Он будет отрицать.
— Осторожней, гнида. Как укладываешь?
И так сойдет.
— Теперь — кругом — и туда!
— Отпустите меня, пожалуйста. Вы меня, вероятно, приняли за кого-то другого.
— Заткнешься ты наконец?
Ладно, с этим говорить бессмысленно.
— Теперь во двор!
Что там? Спрашивать нельзя. Дуло у самого затылка.
Зря им показал, что волнуется. Он должен выглядеть спокойным. Совершенно спокойным. Он — Збигнев Витульский. Шел в деревню. И ни в кого не стрелял.
— Вниз!
В погреб? Все равно он должен выглядеть спокойным. Здесь всего шесть ступенек. Значит, погреб неглубокий. Пусть часовой тоже видит, что он спокоен. Даже то, что засов на двери такой необычно широкий, его не волнует. Его запирают только на ночь. Потом, утром, он все объяснит их начальству.
Темно.
Он заперт в погребе. В и х погребе.
— Постойте на месте, чтобы глаза притерпелись, — сказал кто-то слева. Судя по голосу, старик.
— Кто вы? Уже давно здесь?
— По сравнению с вами — давно. Можно сказать, старожил.
— Тут что, даже окошка нет?
— Оно за вами, над дверью. Но вы не поворачивайтесь, иначе потеряете ориентацию.
При чем тут ориентация?
— Да и не имеет смысла. Оно все равно наглухо забито.
— А куда я попал?
— Извините, вы не местный?
— Нет.
— Называется полицейский участок, а на деле — все.
Что значит «все»? Но расспрашивать не надо, чтобы не дать старику повода самому задавать вопросы.
— Ну, как, глаза немного привыкли?
— Да, немного.
— Тогда двигайтесь вперед. Руку выставлять не надо.
Как старик увидел, что он выставил руку?
— …и берите немного правее. Стены коснулись? Теперь два шага вдоль нее. Это скамья. Можно прилечь.
Не до того ему.
— Предпочитаете сидеть?
— Да. Лежать холоднее, у меня забрали пальто.
— Извините, не разглядел. Сейчас!
Что он там шуршит?
— Сейчас… Тут остался кусок брезента. Завернитесь в него. А завтра… я вам свое пальто… оставлю.
Не надо спрашивать, почему.
— Возьмите, пожалуйста.
Оказывается, и в такой темноте можно что-то различить. Старик невысокий. Или сутулится. Впрочем, какая разница?
— Завернитесь в брезент и все-таки прилягте. Постарайтесь вздремнуть. Перед разговором с этими, наверху, нелишне набраться немного сил.
Перед разговором? Значит, утром его действительно выведут отсюда? Надо лечь: пусть старик думает, что он спит, и не пристает с разговорами.
Завтра он обязательно должен их убедить, что его зовут Збигнев Витульский. И, главное, что не он стрелял. Как только он переступит порог их кабинета, должен начать возмущаться — полицаи его приняли за кого-то другого.
— Извините, вы еще, кажется, не заснули.
Заснешь тут!
— Нет.
— Что там, на воле слышно?
— Не знаю. Ничего не слышно.
— Это здесь — ничего. А там… Какая-никакая, а все-таки жизнь.
— Я далек от всяких новостей. А слухами не интересуюсь.
— Извините. Вы, конечно, правы, что не хотите заводить разговоров. Меня вы не знаете, время теперь такое… Да и место не очень подходящее для разговоров. Еще раз извините.
Отстал, слава Богу.
Как доказать, что он не стрелял? «Труднее всего доказать правду». В связи с чем Нойма это говорила? Неважно. Выбросить из головы. Он не знает никакой Ноймы! Он — Збигнев Витульский. Не женатый.
— Извините меня, ради Бога. Но я чувствую, что вы все равно не спите. Дети у вас остаются?
— Я не женат.
А если Збигнев за это время женился? Конечно, на своей чахоточной Зофье. Другие девицы, видите ли, хотя и здоровые, но лучшей, чем она, на свете нет.
— А у меня остаются. Двое сыновей и внучка.
— Зачем вы так говорите… раньше времени?
— Не намного «раньше». Утро уже, наверно, скоро.
Неужели он не может говорить о чем-нибудь
другом?
— Моя знакомая, на которой я собирался жениться, то есть моя невеста, больна. У нее чахотка.
— Говорят, нашли новое лекарство.
Збигнев, кажется, тоже объяснял что-то про новые лекарства.
— Да, я надеюсь.
— Дай-то Бог! И хорошо, что вы ее, больную, не оставили, не отреклись от нее.
Зофье, конечно, повезло, что Збигнев с нею возится. А сам только вид делает, что это ему не в тягость.
— А все-таки постарайтесь заснуть.
— Вы правы. Я действительно лягу. — По крайней мере, не надо будет слушать его карканье.
Не помогло. Опять не дает покоя.
— Советовать легко. А когда тебя сюда приводят, не очень заснешь. Особенно в первую ночь.
— Меня взяли по недоразумению. Очевидно, приняли за кого-то другого.
— Дай Бог, чтобы это было так. Только беда-то в том, что все так говорят.
— Но я действительно ни в чем не виноват! Я шел в деревню менять…
— Я вам верю, верю. Только извините, но и в этом не вы первый надеетесь их убедить.
— Что значит — не первый? Разве вас тоже задержали по дороге в деревню?
— Нет. Если желаете выслушать, я вам расскажу.
Была у меня москательная лавка. От отца осталась. Даже вывеску менять не понадобилось — и он был Антон, и я — Антон. Антон Ожеховский… Если бы вы были местный, то, наверное, и вы покупали бы у меня что-нибудь вам нужное. Хотя, кто знает? Люди любят покупать в больших магазинах, у богатых хозяев, Тогда и сами себе кажутся богаче. А моя лавка, она — что? Шесть шагов в длину и четыре в ширину. И то, если не очень широким шагом мерить. Зато при Советах, хотя лавку мою национализировали, нас с женой не тронули. Тогда мы этому радовались, а теперь жалею, — может быть, живой бы остался. Опять о том же!
— Немцы лавку вернули. Даже вывеску велели опять прибить. Но что толку? Я вам не мешаю, может быть, вы хотите все-таки немного подремать?
— Нет, нет, ничего. — Все равно ведь будет говорить, пусть уж побольше расскажет о том, что в городе происходит.
— Сначала новый бургомистр всего наобещал — и что товар из самой Германии выписывать будет, и что специальные карточки напечатает на гвозди и прочую хозяйственную утварь. Только слова все это. Да, много теперь слов. И что нас освободили от большевизма. И что вольные мы теперь люди. А вот про то, как этих «вольных» людей расстреливают, — молчат. Нас с вами будут поодиночке, евреев — всех сразу. И молодежь нашу в свою Германию увозят. Этим, небось, не хвастают!