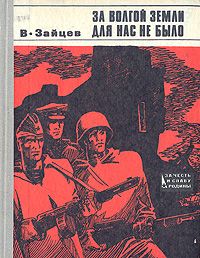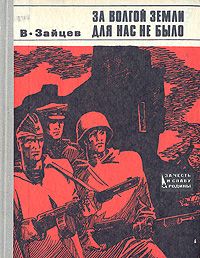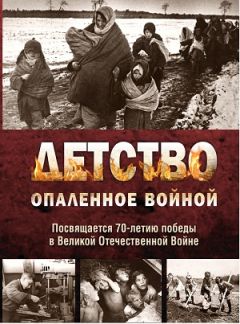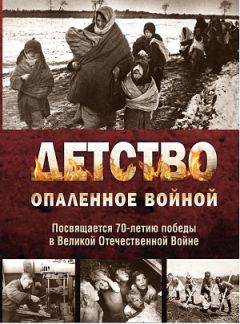Но по быстроте выстрела я заключил, что снайпер где-то перед нами.
Продолжаю наблюдать. Слева — подбитый танк, справа — дзот. Фашист в танке? Нет. Опытный снайпер там не засядет. В дзоте? Тоже нет — амбразура закрыта плотно.
Между танком и дзотом, на ровном месте, перед самой линией обороны фашистов, лежит железный лист с небольшим бугорком битого кирпича. Давно лежит, примелькался. Ставлю себя в положение противника: где лучше занять снайперский пост? Не отрыть ли ячейку под тем листом? Ночью сделать к нему скрытые ходы...
Да, наверное, он там, под железным листом, на нейтральной полосе.
Решил проверить. На дощечку надел варежку, поднял ее. Фашист клюнул! Ага, отлично. Осторожно опускаю дощечку в траншею в таком же положении, в каком приподнимал. Смотрю на пробоину. Никакого скоса, прямое попадание! Значит, точно, фашист под листом.
— Там, гадюка... — доносится из засады рядом тихий голос Николая Куликова.
Теперь надо его выманить. Хотя бы краешек головы.
Бесполезно добиваться этого сейчас. Но с этой удачной позиции он вряд ли уйдет, характер его теперь достаточно известен.
Оборудовали пост ночью. Засели до рассвета. Утром гитлеровцы открыли беспорядочный огонь. По переправе через Волгу били вражеские минометы. В небо взлетели ракеты. Затем ударила наша артиллерия, и фашистские минометы замолчали. Появились немецкие бомбардировщики.
Взошло солнце. Куликов сделал «слепой» выстрел: снайпера следовало заинтриговать. Решили первую половину дня переждать: блеск оптики мог нас выдать. После обеда наши винтовки были уже в тени, а на позиции фашиста упали прямые лучи солнца. У края листа что-то заблестело. Случайный осколок стекла или снайперский прицел?..
Куликов осторожно, как это может сделать только самый опытный снайпер, стал приподнимать каску. Фашист выстрелил. Куликов на мгновение приподнялся, громко вскрикнул и упал...
Наконец-то советский снайпер, «главный заяц», за которым охотился четыре дня, убит! — подумал, наверное, немец, и высунул из-под листа полголовы. Я ударил. Голова фашиста осела, а оптический прицел его винтовки все так же блестел на солнце.
Куликов лежал на дне траншеи и заливался громким смехом.
— Беги! — крикнул я ему.
Николай спохватился и пополз за мной к запасному посту. А на нашу засаду фашисты обрушили артиллерийский огонь.
Как только стемнело, наши на этом участке провели ночную вылазку. В разгар боя мы с Куликовым вытащили из-под железного листа убитого фашистского майора, извлекли его документы и доставили их командиру дивизии.
— Я был уверен, что вы эту берлинскую птицу подстрелите, — сказал полковник Батюк. — Но вам, товарищ Зайцев, предстоит новое дело. Завтра на одном участке ожидается наступление фашистов. Чуйков приказал отобрать группу лучших снайперов и сорвать атаку. Сколько у вас в строю хлопцев?
— Тринадцать человек.
Комдив задумался. Потом сказал:
— Значит, тринадцать против сотен. Сумеете?
— Постараемся, — ответил я.
19. Служу Советскому Союзу
На глазах у меня повязка, на голове целая корона бинтов. Ничего не вижу. Сколько прошло дней и ночей после того, как попал в эту мглу, трудно сказать. Ведь зрячий человек встречает каждый новый день с наступлением рассвета и расстается с ним в вечерних сумерках, а тут — сплошная, без малейших просветов, темнота. Вот и попробуй без привычки отсчитать, сколько дней и ночей лежишь, а точнее — летишь в эту бездонную глубь?..
Благо есть слух, обоняние, которые помогают осмысливать окружающее и отсчитывать не только дни, но даже часы. Это умение приходит не сразу, а лишь когда немного привыкнешь к слепоте. Не зря у слепых слух обостряется до того, что они по звуку измеряют расстояние. Говорят даже: зрячий слух. Я сам испытывал на себе это. Где-то на третьей или четвертой неделе пребывания в госпитале я, по снайперской привычке, мог почти безошибочно определить расстояние до собаки, которая лаяла на окраине села. Расстояние по прямой прицельной линии. Даже подумывал — по линии звука можно вести прицельный огонь. Смешно, конечно, но тогда я никак не мог смириться с тем, что слепота, может быть, навсегда разлучила меня со снайперкой.
Ощущения помогали угадывать, кто подходит к моей койке, — врач или друзья из соседней палаты. От белого халата веет свежестью, от солдатской одежды — плохо проветренным трюмом.
Чернота... Символ мракобесия, угнетения, насилия, цвет фашистского знамени. Говорят, у Гитлера чуть рыжеватые усы, но их рисуют черными, и он, гад, рад этому. Мрак на штандартах, мрак на лице. Самые ядовитые гадюки накапливают яд в темноте.
Так думал я про охватившую меня черноту.
Эта чернота лишила меня самого главного — возможности видеть врага и поражать его. Но я не хочу признавать и не признаю ее власть: память помогает мне видеть все, что было перед моими глазами до того, как огонь ударил в лицо.
Выполняя задачу командира дивизии Николая Филипповича Батюка — сорвать атаку противника на позиции правофлангового полка, — наша группа снайперов применила неожиданную для врага тактику. Заранее зная направление атаки, мы решили взять под прицел в первую очередь командные и наблюдательные пункты противника. Тринадцать снайперских винтовок, тринадцать пар глаз, вооруженных оптическими прицелами, взяли под контроль с разных точек наиболее привлекательные для рекогносцировки пункты в глубине боевых порядков противника. Групповая охота. Смысл ее заключался в том, чтобы еще до начала наступления обезглавить роты и батальоны противника. Расчет был прост: выйдут гитлеровские офицеры на последний осмотр полосы наступления — посылай им положенную долю свинца. Выскочил какой-то храбрец вперед, чтобы увлечь за собой солдат, — не медли, прошивай ему голову! Обозначился где-то успех противника — поворачивай все тринадцать снайперок в ту сторону и срезай сначала офицеров, а потом кого придется, чтоб никому неповадно было перешагивать этот рубеж, чтоб знали: здесь — только смерть!
Короче говоря, групповой снайперский огонь рассеянного и концентрированного веера — так это называлось у нас — ослеплял командные пункты врага и пресекал развитие его успеха в самом начале.
Наш план удался, как говорится, по всем статьям. С рассветом, перед началом наступления, на командных и наблюдательных пунктах противника заблестели окуляры биноклей, замелькали кокарды и каски. Немецкие офицеры вглядывались в нашу сторону. Но они не учли, что на фоне уходящей мглы превращаются в блестящие мишени. В общем, еще до начала атаки я израсходовал две обоймы, Николай Куликов — две, Виктор Медведев — три; остальные тоже не зевали.
Но атака все же началась. Кто-то с далекого командного пункта, до которого не доставали наши пули, гнал немецких солдат на гибель. Наши пулеметчики, стрелки, артиллеристы отрезали им пути отхода, прижали к земле. Мне даже показалось, что они ждут лишь момента, чтобы поднять руки. И тут черт дернул меня отличиться в захвате пленных. «Черт» — это тот самый боевой азарт, который порой затмевает разум...
Выскочил я из своей стрелковой ячейки, дал желтую ракету — сигнал своим: «переносить огонь вглубь» — и бегу туда, где, казалось, ждут нас, чтобы сдаться в плен, немецкие солдаты. Бегу, размахиваю руками, дескать, вот я, идите ко мне с поднятыми руками! Действительно, поднялось несколько немцев. И в этот момент зарычал «ишак» — немецкий шестиствольный миномет. По своим, гады, дали залп осколочными шестипудовыми минами. Одна из этих «дур» летела прямо на меня. Я видел, как она переворачивалась в воздухе. Кто бы мог подумать, что немецкие минометчики будут бить по своим пехотинцам! А я даже не хотел припадать к земле, чтобы не уронить себя перед немцами. Мина упала от меня метрах в тридцати, подпрыгнула — и взрыв! По лицу хлестнул горячий, с огненными осколками, воздух — и сразу к глазам прилипла густая, вязкая темнота. Прилипла — с колючей болью в роговицах, с огнем, прожигающим мозг до самого затылка, и тошнота, тоже липучая и неотступная.
...Неделю назад, после того как прекратились боли в затылке, врачи снимали повязку с моих глаз, но бесполезно: темнота еще больше сгустилась. Какая обида. Ведь врачи хотели порадовать меня: по улицам села брели тысячи, десятки тысяч пленных немцев. Итог Сталинградской битвы! Я плакал и смеялся. Плакал от того, что не мог вырваться из вязкой темноты, а смеялся от удивительных звуков, доносившихся до моего слуха со всех концов села, из разных палат, от окон.
— Смотри, смотри, на ногах сапоги из соломы...
— А что у этого на голове?? Ха, ха! Рейтузы!
— Ну и вояки...
Но меня больше всего смешил петух в крайнем дворе села. Похоже, он сидел на воротах и каждую колонну встречал протяжным «Ку-каре-ку-у-у!», хлопал крыльями, вроде салютовал, потом почти по-человечески хохотал. Был уже день, а он не умолкал, то кукарекал, то хохотал. Такого в цирке не увидишь!