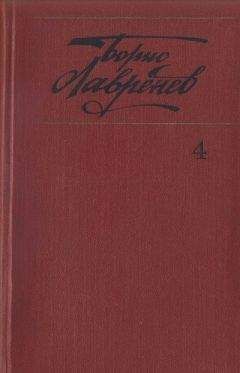Господин Аткин расцеловался с обрученными и проследовал вместе с ними в кают-компанию транспорта, где офицеры приветствовали их звоном бокалов, поднятых в честь баронета и его невесты.
За холодным ужином господин Аткин был очень оживлен и весело беседовал с офицерами о событиях истекших дней, проклиная короля Максимилиана, показавшего всю черноту своей души по отношению к лорду Орпингтону и Наутилии.
Он выразил глубокое сожаление, что не смог убедить сэра Чарльза в ненужности государственного переворота, который только осложнил положение.
— Бросьте, папа, — сказала Лола, — если вам еще не надоела политика, вы сможете заняться ею по приезде в Наутилию. Фрэди поможет вам пройти в парламент, и там вы можете болтать все, что придет вам в голову.
Господин Аткин покачал головой:
— О, нет! Я только отдаю дань воспоминаниям. Я окончательно решил покинуть политическую арену. У меня есть средства, чтобы прожить покойно. Я думаю, что мне удастся открыть фабрику вязаного белья. Я слыхал, что в Наутилии это самое выгодное предприятие.
В окна кают-компании начала пробиваться слабая голубизна рассвета. Офицеры поднялись и пожелали господину Аткину покойного сна.
Фрэди, внимательно смотревший за ужином на подругу президента, проводил Лолу в ее каюту и, вернувшись, предложил указать господину Аткину его помещение.
Сопровождая его по коридору, он продел руку под локоток Софи и, нежно прижав его, шепнул:
— Вы мне безумно нравитесь! Я жажду вас! Могу ли я надеяться?
Софи испуганно взглянула на него.
— Баронет Осборн, — шепнула она, — ведь у вас невеста?
— Какие пустяки! — ответил Фрэди, — всему свое время! Решайтесь!
Софи освободила свою руку.
— Вы дерзкий мальчишка, — шепнула она на пороге каюты, — и заслуживаете презрения… который номер вашей каюты?
Глава двадцать первая
«НЮХАЙТЕ ВОДУ»
Дежурный радиотелеграфист под утро уснул в кабинке. Голова его в рыжеватых завитках упала на лакированный столик, на котором валялись в изобилии апельсинные корки от вчерашнего десерта радиотелеграфиста.
В розоватом свете лампочки под бумажным колпаком волосы его казались такими же оранжевыми, как корки, запутавшиеся в них.
Металлическая дуга наголовья сползла набок, и телефонная раковина висела на одном ухе.
Радиотелеграфист с вечера прослушал концерты и лекции на всех языках, после полуночи долго ловил какие-то непонятные свисты и вопли, несшиеся из неведомых пустынь вселенной, отправил в Атлантический океан крепкое ругательство и, зевнув, предался сну. В эту ночь больше не предвиделось ничего интересного.
В открытый иллюминатор каюты доносилось шелковое плескание волны, и каждые полчаса стенные часы вызванивали такты торжественного гимна «Боже, храни короля», ибо радиотелеграфист состоял в службе его величества Гонория XIX и находился на борту «Беззастенчивого».
Около трех часов ночи в телефоне, прижатом к уху спящего, заворковало и забулькало. Таинственный голос кричал из него в ухо телеграфиста. Он заворочался, промычал и вдруг быстро поднял голову, уже покорный долгу и внимательный, как будто сон и не прикасался к нему.
Он положил пальцы на эбонитовые шишечки конденсаторов и повертел их. Голос, звучавший из ниоткуда, стал ясным. Длинные и короткие скрипы, перемежаясь, начали складываться в слова.
Телеграфист расшифровал сигнал, призывающий к вниманию, и, нажав отправной рычажок, ответил: «Алло! „Беззастенчивый“. Слушаю вас».
Мембрана коротко скрипнула ехидным, как будто смеющимся, скрипом и на секунду смолкла. Телеграфист придвинул блокнот и сжал пальцами карандаш.
На новый скрип рука его ответила скачущей беготней по блокноту, но после первых же строк, легших на бумагу, он подскочил на месте и выронил карандаш из пальцев.
Откинувшись на полукруглую спинку стула, он беспомощно замигал светлыми глазами, с недоумением поглядел на исписанный листок и решительно нажал снова рычаг отправления.
Высоко вверху, на кончике ажурной мачты флагманского дредноута, антенна прошелестела голубоватыми искрами. Искры ушли в пространство, сложившись в тревожные слова: «Повторите, я не понимаю, повторите, повторите».
Но пространство ответило просто: «Вы поняли, как надо. Слушайте до конца».
Радиотелеграфист пожал плечами и обратился в безвольный слуховой аппарат.
Но по мере того, как блокнот заполнялся словами, брови принимающего поднимались все выше и изгибались все острее.
И когда утих последний звук, радиотелеграфист стащил с головы прибор, как будто он грозил раздавить ему череп, и вскочил со стула, держа в руках запись.
— Однако же, — сказал он вслух, — я думаю, что такой радиограммы он не получал со дня рождения. Что, они с ума сошли?
Он отошел к двери и нажал кнопку звонка. Вестовой вырос в ней, бесшумный, как тень отца Гамлета.
— Разбудите тотчас же лейтенанта Уимбли и попросите его срочно прийти сюда, — приказал радиотелеграфист и уселся переписывать начисто принятую радиограмму.
Лейтенант Уимбли, старший радиотелеграфный офицер «Беззастенчивого», появился в кабинке не слишком скоро. При входе он зажмурился от яркого света и запахнул лиловую ночную пижаму.
— В чем дело, Дик? Ради какого землетрясения вы подняли меня с постели? — полусмешливо, полусердито спросил он.
— Простите, сэр, но я не стал бы тревожить вас из-за такой мелочи, как землетрясение.
— Тогда что же? Война?
— Нет, сэр!
— Биржевая паника?
— Нет!
— Что же случилось, черт возьми? Да не тяните же!
— Прочтите сами, сэр, — ответил радиотелеграфист, подавая листок.
Лейтенант Уимбли взглянул на карандашные каракули и через минуту уставился в лицо подчиненного с необычайным выражением.
— Вы напились перед дежурством, — сказал он холодно, — вы знаете, как карается такой поступок, когда эскадра находится на боевом положении?
— Сэр, я непьющий и член Лиги по борьбе с алкоголем, — отозвался спокойно телеграфист.
— Дыхните мне в лицо, — приказал лейтенант. — Странно… не пахнет. Откуда вы приняли ее?
— С берега, сэр. Я сначала не поверил глазам, дал сигнал повторения. Повторили то же, слово в слово. Я думаю, сэр…
— Вам ничего не нужно думать, Дик, — прервал внезапно лейтенант Уимбли, — я думаю, что гораздо безопасней для вас будет совершенно забыть этот текст. Дайте-ка мне черновик.
Он спрятал черновик в карман и дополнил:
— Если хоть одна живая душа узнает содержание, вы будете сидеть в подводном карцере не меньше месяца.
И с этим обнадеживающим предупреждением лейтенант Уимбли покинул кабинку.
Радиотелеграфист уныло посмотрел ему вслед, подошел к аппарату, постоял и дал позывные Эйфелевой башне. Получив ответ, он хихикнул и простучал в эфир: «Чтоб вам подохнуть, жабоеды проклятые».
Лейтенант же Уимбли, не теряя времени, отправился на корму и разбудил флаг-офицера сэра Чарльза.
Оба офицера внимательно проштудировали еще раз злополучный квадратик бумаги, и флаг-офицер нерешительно промямлил:
— Н-не знаю… Я даже боюсь идти к нему с такой штукой.
— Вздор! — сказал решительно лейтенант Уимбли, — вы должны это сделать. Если мы не передадим ему сейчас, он все равно получит вторую, и вам же влетит за сокрытие. Не дурите, дорогой мой. Я подожду вас здесь.
Флаг-офицер вздохнул и заплетающимися шагами направился к каюте лорда Орпингтона. Он трижды стучал в дверь, с каждым разом все громче и настойчивее, пока не услыхал разгневанный сонный голос сэра Чарльза, спрашивающий, почему его будят в такой нелепый час.
— Необыкновенная радиограмма, сэр Чарльз, — поперхнувшись, ответил офицер.
— Что же, вы не могли подождать с ней до утра? — спросил великий полководец, представ перед подчиненным в одной рубашке.
— Она… она слишком необычайна, сэр, — теряя последние остатки хладнокровия, сказал перепуганный офицер, входя в каюту.
— Ну, что же, читайте, — приказал сэр Чарльз, закуривая папиросу.
— Я? — переспросил ошеломленный флаг-офицер, даже отступив назад.
— А кто же? Нас как будто здесь только двое?
— Я… я не смею, ваше превосходительство… мой язык… — пролепетал флаг-офицер.
— Что такое?.. Дайте сюда! — крикнул побагровевший сэр Чарльз, вырывая радиограмму. — Что это такое, что ваш язык не может выговорить?
Он прошел к столу и, приблизив листок к кенкетке, вцепился в него глазами.
Флаг-офицер стоял ни жив ни мертв и рискнул поднять глаза, только услыхав, как что-то обрушилось на стол с грохотом, показавшимся взволнованному офицеру пушечным выстрелом.
Перед ним было лицо сэра Чарльза, совершенно неузнаваемое в перекосившей его судороге ярости. Кулак лорда Орпингтона, упавший на стол, застыл на скомканной радиограмме.