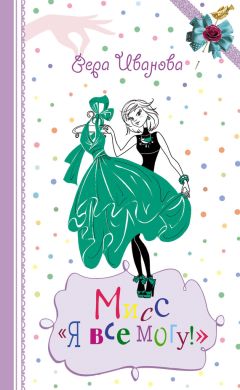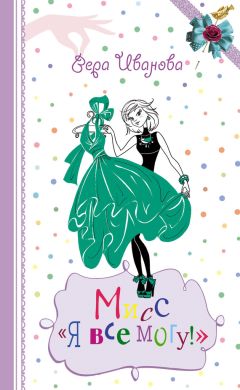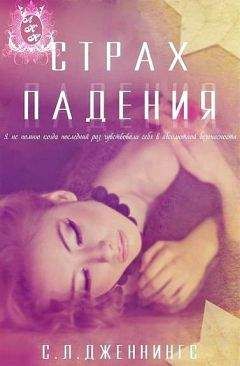Я снял комнату в гостинице Христианского союза молодых людей. Спал весь день, — какая роскошь не вставать с постели по утрам после целого года армейских побудок! — а по вечерам слонялся по городу. Я проводил ранние вечерние часы в темных залах кинотеатров, а позднее — в затемненных барах. Я встречал одиноких ночных людей: алкоголиков, сутенеров, проституток; мужчин, которым не хотелось идти домой, и женщин, которые не хотели идти домой одни. Их привлекала моя форма, а узнав, что я был во Вьетнаме, они хотели все знать о войне. Я курил травку и рассказывал им о перестрелках и об отрезанных ушах и пальцах рук и ног. Они мне но верили, но были увлечены и просили продолжать. Я очищал душу от всех жестокостей, какие видел. Они оживлялись. Выпей, парень, еще за меня. Рассказывай еще. Я тянул марихуану и рассказывал им, что воевал рядом с генералом и что он (только никому не говорите) всегда перед боем испытывал половое возбуждение. Это им нравилось и ужасно веселило их. Генерал Ганн, наверное, был герой и по бабьей части, ха-ха! Иначе противника не разобьешь. Правда, парень?
Через две недели после моего приезда в Нью-Йорк пришло заказное письмо от директора приюта с вложенной в него нелепой телеграммой. Я раньше написал ему, объяснив свой внезапный отъезд желанием посетить места, где прошло мое детство. Он сразу ответил мне, выразив надежду, что мои поиски увенчаются успехом, и, что бы ни случилось, писал он, для меня всегда найдется место в приюте, когда мне потребуется. Меня тронула его доброта, и как-то ничью, выкурив травку в своем номере гостиницы, я начал писать ему письмо с признанием, излагая все подробности моего вьетнамского года. Я так и не кончил его. Я не мог поколебать его представления о герое войны, и он все равно не мог бы меня утешить. Он не был моим отцом. Мой отец умер. После долгой ночи, наполненной галлюцинациями, я проснулся и уничтожил письмо. Я подумал, что рву все связи со своим прошлым. Я один по всем мире, и надо с этим примириться. Никто меня не поймет, никто не простит. В то утро впервые с детских лет я плакал о себе, о своем одиночестве, а потом почувствовал облегчение, словно меня вырвало, словно прошлое ушло навсегда.
Отныне…
Мои родители умерли, и я не буду о них думать; я сирота.
И не буду думать о годе службы во Вьетнаме — это дело прошлое.
И не увижу ни того мальчика, лежащего на берегу с перерезанным горлом; ни Хэммера, застрелившего мальчика в поле; ни…
Однако телеграмма разрушила мою решимость забыть прошлое. Доставленная невскрытой в письме директора, который выражал надежду, что она содержит хорошие новости, телеграмма вдруг живо воскресила в памяти испытания вьетнамского года.
Телеграмма, как вам известно, была от министра обороны. В ней сообщалось, что я награжден орденом Почета за исключительную доблесть в бою. Указывалось, будто я уничтожил пулеметное гнездо и убил четырех солдат противника, спасая жизнь американского патруля, и т. д. и т. п.
Как я писал в начале своего дневника, в ответ на это сообщение я громко расхохотался. Это была поразительная нелепость. Меня наградили орденом Почета; меня приглашают с семьей в Белый дом, где президент лично вручит награду. С семьей!
Смех застрял у меня в горле. Я закурил марихуану, чтобы успокоиться, и долго вглядывался в телеграмму, перечитывая каждое слово:
Рядовому Дэвиду Глассу. Денверский приют для мальчиков. Денвер, штат Колорадо…
Длинная затяжка марихуаны, и я уже у ворот Белого дома со своей семьей — со всеми сиротами Денверского приюта. Гордый директор аккуратно построил их в праздничной одежде в две шеренги. Часовой Белого дома, волнуясь, читает телеграмму. Он должен проверить ее у своих начальников. Да, все в порядке. Можете входить со своей семьей, но прежде надо каждого обыскать, нет ли у него оружия. У мальчиков отбирают перочинные ножи и игрушечные ковбойские пистолеты.
Как министр обороны, я рад Вам сообщить, что Вы награждены орденом Почета за…
За убийство рядового Хэммера; за убийство лейтенанта «Летуна» и капралов Уэйда и Холи; за убийство полковника и генерала Ганна; за то, что слушал крики раненых и молчание убитых; за то, что терпел разбитые черепа, перерезанные горла, отрезанные пальцы, уши…
Вы проявили беспримерный героизм в бою и, рискуя жизнью, спасли от гибели патруль, уничтожили пулемет и четырех солдат противника. В знак признания Вашей доблести президент приглашает Вас прибыть с семьей в Белый дом в десять часов утра 28 августа для получения награды.
Уважаемый господин министр нападения! Я получил Вашу телеграмму с сообщением, что я награжден орденом Почета, и, хотя я ошеломлен таким признанием моих скромных заслуг во Вьетнаме, я также изумлен и встревожен. Изумлен, потому что Ваши компьютеры явно набрехали при выборе героя; встревожен, потому что я герой, не отвечающий Вашим нормам поведения, подобающим солдату. С другой стороны, компьютер, предназначенный для выбора героев, пожалуй, мудрее нас и правильно избрал меня для этой чести. Поэтому я принимаю почетную награду и буду присутствовать со своей большой семьей в Белом доме в назначенный день и час. Ваш соратник в борьбе за легализацию марихуаны рядовой Дэвид Гласс.
Телеграфист в конторе Западного союза, унюхав сладкий запах марихуаны, подозрительно уставился на меня, прежде чем взглянуть на рукописный бланк, который я подал, потом сердито проворчал:
— Надо отпечатать текст на машинке, а не писать от руки.
Он поглядел на меня через старомодные очки в железной оправе. Телеграфист был пожилой и настроен враждебно.
— Виноват, — сказал я, — но если вы не разбираете мой почерк, я перепишу.
Он снова углубился в телеграмму и прочел вслух:
— «Министру нападения». — Он взглянул на меня. — Вы хотите сказать, «Министру обороны», не так ли?
— Нет. Вы прочли правильно. — Я усмехнулся, но ему не было смешно. — Читайте дальше, — сказал я.
Он продолжал читать телеграмму про себя, водя во строчкам пальцем и шевеля губами. Прочтя половину, он опять сердито посмотрел на меня:
— Нельзя употреблять в телеграмме непристойные слова.
— Какие еще непристойные слова?
— Ругательства.
— Разве я употребил ругательства?
— Нечего меня дурачить, парень. Я не хочу неприятностей.
— Я не причиняю никаких неприятностей. Я только хочу отправить телеграмму.
Он ткнул пальцем в телеграмму.
— Нельзя писать «набрехали». Это противозаконно.
— Это разговорное слово. В нем нет ничего ругательного.
Вдруг в его глазах мелькнул испуг, когда они скользнули с моего лица вниз по форме. Я понял, что он смотрит, не вооружен ли я.
— Я не хочу неприятностей. Хочу только отправить эту телеграмму моему начальнику в Пентагон. А можно написать вместо «набрехали» «наврали»? — Я в последний раз затянулся сигаретой, бросил окурок на пол и затоптал.
Лицо старика расплылось у меня перед глазами. Наркотик сильно действовал: мальчик на берегу смотрел на меня полными ужаса глазами. Я опустил отяжелевшие веки. Издалека доносился голос телеграфиста, эхом отражавшийся от стен. Его тон был мягким.
— Ты накурился, сынок. Иди-ка лучше к себе в гостиницу и проспись. Я буду здесь завтра.
Я поглядел на него из-под полуопущенных век.
— Вы мне не верите? Вот посмотрите.
Я пошарил в нагрудном кармане гимнастерки, вытащил измятую телеграмму Пентагона, расправил ее и положил на конторку.
Пока он читал, передо мной пробегали другие страшные образы. Я недостаточно накурился. Бедный, простодушный старикан протянул мне телеграмму.
— Это большая честь, сынок. Я не знаю, что тебя тревожит, но ты не должен отправлять телеграмму в таком виде. Поди проспись, сынок. Приходи завтра утром. Я буду здесь. Мы ее напишем приличным языком. Договорились, сынок?
— Договорились.
Я взял назад телеграмму и попытался засунуть ее в карман. Он мне помог. Я видел, как он разорвал мой телеграфный бланк.
— Нельзя говорить «набрехали». Это противозаконно, да?
Он кивнул.
— Ты не хотел так сказать. Ты просто устал.
— Да. Я ужасно устал. Откуда вы знаете, что я остановился у «христиан»?
— Там останавливаются все солдаты. Они там живут все время.
— И посылают телеграммы в Пентагон? — спросил я, борясь с усталостью.
— Нет, ты первый. Большинство просто просит родных прислать денег на жизнь. Как будто они не могут вернуться домой. Эта война что-то с ними делает. Уж ты это знаешь.
— Да, я это знаю.
— Приходи завтра утром, сынок. Мы пошлем телеграмму как полагается, хорошо?
— Хорошо, папаша..
Я устало улыбнулся ему, и он с большим облегчением улыбнулся мне в ответ.
Я вышел и, спотыкаясь, побрел в свою комнату, где, не раздеваясь, рухнул на постель и уснул крепким сном.
Утром я проснулся отдохнувший и голодный. Съев обильный завтрак в соседнем кафе, я отправился в контору Западного союза. Старика там не оказалось. На его месте сидела молодая женщина и жевала резинку. Я отпечатал телеграмму и подал ей. Она, прочла телеграмму один раз, потом другой, подсчитывая слова. Вот что она прочла: