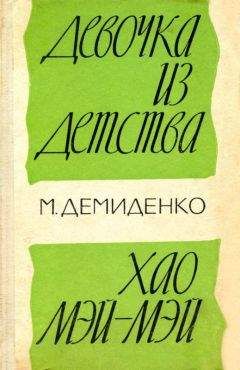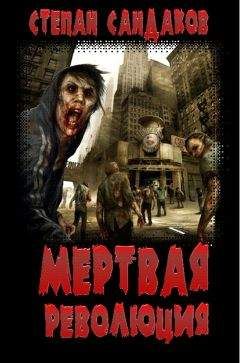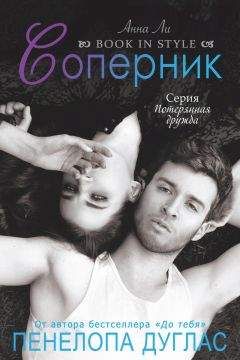Около самолета крутился фотограф. Он с разных точек фотографировал самолет, просил, чтоб опустили крыло, чтоб заснять первоначальное положение, как было после приземления. Затем фотографировал канавку, сделанную брюхом машины по полю. Щелкал «лейкой» деловито и спокойно: видно, привык.
Командиры с эмблемами техников оседлали самолет, как муравьи дохлую муху. Залезли под самолет, на самолет, в самолет… Перебрасывались фразами. Без эмоций, без вздохов и женского соболезнования.
В жизни авиачасти потери предполагались заранее, как само собой разумеющиеся вещи.
Комендант аэродрома подписал какую-то бумагу, обратился к бойцам:
— Где командир вашей роты?
— В штабе.
— А политрук?
— В кузнице. Колхозных лошадей кует.
— Без них обойдемся. Ты! — Комендант указал на дядю Борю Сеппа, он случайно стоял ближе других бойцов. — Мигом в машину, в расположение. Взять оружие, патроны и назад. Будете охранять самолет. Предупреждаю — никого не подпускать. Головой отвечаете за приборы. Машина опытная.
— Слушаюсь!
— Идите!
Дядя Боря сел в «виллис», машина поскакала по грядкам, огибая черные кучи картофеля. Дядя Боря Сепп торопился заступить в наряд.
которая служит продолжением предыдущей.
На Лебяжьем поле я видел дядю Борю Сеппа в последний раз — ночью его принесли на шинели мертвым. Его зарезали. Сняли классически. Думаю, что он и не сообразил, что происходит, когда из темноты сзади набросились, перехватили горло и точным ударом всадили нож под сердце.
На лице у него застыло изумление, точно он хотел спросить: «За что? Да разве можно так? Разве можно человека ножом?!»
— Рота, в ружье!
Бойцы выскакивали из палаток, на ходу завязывали обмотки, натягивая гимнастерки. Не зря Прохладный натаскивал роту, как гончих на волка.
Наступил момент, в предвидении которого младший лейтенант не давал нам спокойно спать, — боевая тревога.
Четко расхватали оружие из пирамид, выстроились. Замерли. Ели глазами начальство и украдкой косили в сторону столов для чистки оружия — на среднем лежало тело рядового Сеппа, накрытое шинелью.
Появился младший лейтенант Прохладный, с ним политрук Иванов и еще командир, старший лейтенант. Как его фамилия, не знаю, известно лишь, что служил он в СМЕРШе — особом отделе авиационного полка.
— Рота, смирно! Вольно! Поглядите туда! — показал Прохладный пальцем на столы для чистки оружия. — И запомните: лежит товарищ. Про мертвых плохо не говорят. Но… чем он занимался на посту? Дайте сюда!
Политрук достал из планшетки какую-то финтифлюшку.
— Посмотрите. Ознакомиться всем! — приказал Прохладный.
Финтифлюшка пошла по рукам. Это оказалась поделка из желудей и разлапистого корня ольхи — маленький добрый гномик с детской улыбкой. Он улыбался, точно приветствовал: «Здравствуйте! С добрым утром!»
— Вот чем занимался на посту рядовой Сепп, — прерывисто продолжал Прохладный. — Игрушечку резал… Игрался! На боевом посту… В военное время. Службу нес. Старший лейтенант, ставьте боевую задачу!
Прохладный расстегнул ворот гимнастерки, начал растирать сердце рукой. Шрам на его лице был пунцовый; казалось, что шрам светится, как рубец на стальной плите после сварки автогеном.
Старший лейтенант — особняк, прохаживаясь перед строем, простуженным голосом говорил:
— Сегодня ночью, около двух, на посту убит часовой. Колющим оружием в область сердца. Немецкие диверсанты в количестве шести человек…
— Меньше, — перебил Прохладный. — Трое. Три следа.
— Будем считать, шестеро… — сказал старший лейтенант.
— Трое! — зло повторил Прохладный.
— Число диверсантов точно не установлено, — сказал старший лейтенант. — Они убили часового, сняли с подбитого самолета приборы. Ближайшие части подняты по тревоге. Предупреждено население. Будем прочесывать местность. Задача — любой ценой взять немецких диверсантов. Самое важное — не позволить переправить через линию фронта вооружение с «яка». Вы скажете? — обратился он к политруку.
— Товарищи, — сказал капитан Борис Борисович и поправил левой рукой редкую шевелюру, — притупилась бдительность. И за это платим…
— Рота! — скомандовал Прохладный. — Запомнили приказ старшего лейтенанта?
— Так точно!
— Теперь запомните мой. Ищите троих. К сожалению, поиск возглавляю не я. На-пра-во! Прямо бегом марш! Козловы, Козловы, вон из строя! Сено-солома, детский сад! Остаться в расположении. Дежурный, дежурный по роте, прими на подмогу. И построже. Чтоб не играли в куколки на посту.
Рота убежала… В ночь, в лес, в поля искать врага, убийц-фашистов. И сразу стало тихо в соснячке, и сразу стало слышно, как шумят верхушками деревья. Они шумели и вчера, и позавчера, они шумели здесь на ветру вечность. На столе лежал дядя Боря, мой друг, мой солдатский дядька. Мы понимали друг друга без слов…
Странная штука смерть! Что-то нарушили в человеке, самую малость, и он еще есть, человек, и его уже нет и никогда не будет. Не повторится. Я понимал, когда убивали врагов, но я не мог понять, как умирают друзья. Это вроде бы как умер я сам. Мой мир, мое восприятие мира, то, что вижу, слышу, чувствую, — мое «я» неспособно примириться с тем, что вдруг перестанет слышать, видеть, чувствовать… Тогда бы не стало моего мира, он погиб и никогда не возникнет вновь, сколько бы людей ни появилось на земле. Обидно! Когда я умру, мир пусть на самую крошечку, малость обеднеет, потому что из него выпадет мое мироощущение.
Мертвый не страшил — не верилось, что, если его позвать, дядя Боря не откликнется. Теперь мы никогда не поговорим с ним о книгах, о Стешке… Он вчера работал на пару со Стешкой. Они так похожи друг на друга. Это он для нее вырезал гномика. Для нее! Где гномик?
«Обязательно раздобуду гномика и отнесу Стешке», — решил я.
— Козловы! — позвал дежурный по роте. — Четверо, вас двое, всего шестеро. Вот и держи оборону неполным отделением. Давай-ка, берите ракетницы, на вас оружия нет, ракет наберите побольше, по две ракетницы возьмите. Сядьте у навеса и не мозольте глаза, а то еще подстрелят ненароком свои. Кто идет, значит, кричите: «Стой, стрелять буду!» — и ракету вверх. Если бежит или прет на тебя, валяй ракетой, как из охотничьего ружья жаканом. В лес не заходите. Страшно? Ежели страшно, то марш в палатку.
— А тебе страшно? — спросил Рогдай.
— Как сказать! — ответил дежурный по роте.
Мы пошли к навесу. Под навесом стоял спортивный конь. Прохладный доставил его в роту из школьного спортзала, чтоб крутить на нем разные упражнения, закаляться физически. К счастью, при транспортировке у спортивного снаряда кто-то открутил ручки. Ручки затерялись.
Я сел на коня.
— Зачем вылез? — зашипел Рогдай. — В темноте-то, запомни, видно силуэт на фоне неба. Плохой ты разведчик, никогда из тебя разведчика не получится.
— Верно, — согласился я, но с коня не слез.
Брат залег, как в траншею, между пустыми ящиками из-под колючей проволоки, притаился.
Серая мгла ползла с болота. Пронизывающий липкий туман накрыл палатки, звуки тонули, вязли в тумане. Голос Рогдая стерся, отдельные слова слились в неясное бормотание:
— Бы-бы-бы-бы…
«Мне сейчас на шестнадцать потянуло, — думал я. — Пятнадцать лет! Скоро паспорт дадут. Буду ходить голосовать на выборах».
Враги ходили где-то рядом. Наверно, я потому и не боялся их, что еще не свыкся с мыслью, что дядю Борю зарезали.
Я соскочил с коня и пошел к столам для чистки оружия. Глупо лежал человек на столе… Я подошел, откинул полу шинели с лица Сеппа. Глаза закрыты… Спит, что ли?
Нет, я не понимал, что такое смерть!
Подошел дневальный с лопатой. Винтовка за плечами.
— Алик, — сказал он, — бери лопату. Пошли копать.
— Чего копать?.
— Могилу.
— Кому?
— Да ему… Похороним. Жалко парня. Глупая смерть. Конечно, кто знал, что фрицы рядом? Зазря погиб.
Мы рыли могилу у дороги. Перерубали корни деревьев, земля попалась сухая, с песочком.
— Шикарное место, — сказал со знанием дела дневальный. — Сухое.
Я не сознавал, что мы роем могилу. Двое дневальных взяли тело под голову, за ноги, завернули в шинель.
Я очнулся. Закружилась голова.
А когда они опустили дядю Борю в яму, взялись за лопаты и бросили первые комья земли в яму, я закричал:
— Перестаньте! Не дам!
Я спрыгнул в яму.
— Вставай! Вставай! Перестань притворяться… — тряс я за плечи дядю Борю.
Меня выволокли из могилы, дали по шее. Я бился, кусался, потом затих. Примирился…
Его закопали.
У дороги вырос холмик. И все?
Как просто! Холмик… Смерть отвратительна в своей оголенной откровенности.


![Николай Печерский - Важный разговор [Повести, рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/205932/205932.jpg)