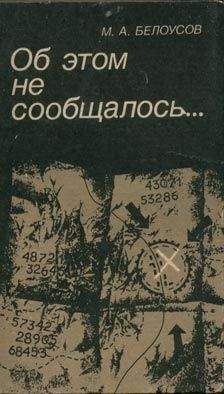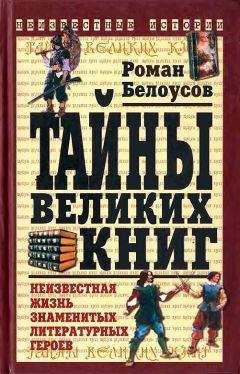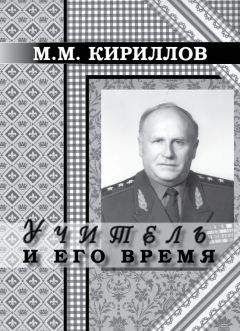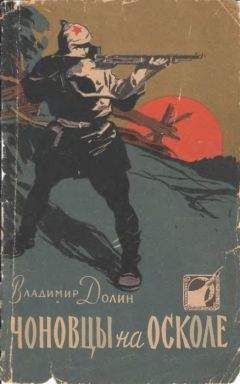Малахов после отъезда Раисы Лаврентьевны затосковал. Теперь некому было высказать мучившие его мысли. Волей-неволей он стал делиться ими с сослуживцами. Малахов откровенно говорил, что обеспокоен недоверием, которое проявляют к нему чекисты. Иначе, мол, чем объяснить столь длительную проверку его образа жизни на оккупированной территории? Как выяснилось впоследствии, он особо боялся проверки его по Конотопу, где могли найтись люди, которые знали о том, что он не был в госпитале. И теперь он с каждым днем всё яснее себе представлял, что даже пребывание его в должности командира сводной роты зависит от дня изгнания фашистов из Конотопа. Вскоре Малахов обратился по телефону к начальнику отдела кадров фронта с просьбой помочь ему встретиться с майором Яровенко.
Свою новую исповедь в кабинете Яровенко Малахов начал словами:
– Пришел к вам, чтобы повиниться. При предыдущих встречах я не сказал вам всей правды о себе. На излечении в немецком госпитале в Конотопе я не был. В Конотопе я жил при штабе армии Гудериана и неоднократно встречался с ним.
Даже готовый ко многому, майор удивился:
– Как же это произошло? Расскажите всё по порядку.
– 16 сентября 1941 года начальник штаба Юго-Западного фронта генерал Тупиков приказал мне выехать из Прилук в направлении Чернигова, разыскать на этом маршруте командование 22-го мехкорпуса и помочь ему связаться со штабом 5-й армии, – медленно, голосом смертельно уставшего человека начал Малахов. – Но этого мне сделать не удалось. Я добрался лишь до окраины села Воловица и здесь при налете немецкой авиации был тяжело контужен. Пришел в себя через двое суток на хуторе в доме колхозницы Кириченко. Она и ещё одна женщина подобрали меня у Воловицы, в которой уже были гитлеровцы. Видя, что я советский офицер, решили укрыть. Но дня через три гитлеровцы появились и на хуторе. Так я попал в плен. Они поняли, что я командир, хотя Кириченко срезала с моей гимнастерки петлицы и нарукавные нашивки. Немцы обыскали меня, посадили на грузовую машину и повезли в направлении Бахмача. Других советских военнослужащих на хуторе не было, и в машине с немцами я оказался один. В пути в разговоре между собой они восторгались успехами своей 2-й танковой армии и её командующего генерала Гудериана. Я сначала молча слушал их разговор, а потом на немецком языке сказал, что я знаю господина генерала Гудериана и в прошлом, когда он был еще подполковником, встречался с ним. Моё вступление в разговор на немецком языке произвело на них впечатление, и старший фельдфебель спросил у меня звание и фамилию. Я ответил.
– Зачем вы сказали фашистам о своем знакомстве в прошлом с Гудерианом? – спросил Яровенко.
– За прошедшие месяцы войны я уже много был наслышан о расправах, чинимых гитлеровцами над советскими военнопленными. Я надеялся, что знакомство с Гудерианом спасет мне жизнь в плену.
– Что же было дальше?
– Поздно вечером мы приехали в Бахмач. Сюда фашисты сгоняли пленных. А утром следующего дня меня представили офицеру. Он уточнил, действительно ли я в прошлом был знаком с генералом Гудерианом? Я ответил, что встречался с ним по долгу службы на маневрах. Но это было уже давно, лет десять тому назад. Мы с Гудерианом вели тогда обстоятельные беседы о роли танков в будущих войнах. После разговора с офицером меня сразу же отделили от других военнопленных. А потом отвели на квартиру, где я прожил четыре дня. Затем меня отвезли на легковой машине в Конотоп. Здесь в штабе армии я был принят Гудерианом.
– Гудериан узнал меня сразу, – продолжал Малахов. – И, ещё до того как предложить мне сесть, покровительственно сказал: «Вот что время делает с судьбами людей». Когда-то, дескать, мы были на равных служебных ступенях и считались большими специалистами бронетанкового рода войск. А вот теперь, спустя десять лет, один командует «армадой» танков и имеет чин генерал-полковника, а другой так и остался в старом чине и «без всяких войск». Он не сказал «военнопленный», а просто подчеркнул «без всяких войск». Затем он начал говорить, что мои русские начальники якобы не захотели оценить меня по достоинству. Но чего не сделали они, могут сделать немцы, их командование. И он предложил мне должность при штабе его армии, что-то вроде советника или консультанта, обещая через месяц надеть на меня немецкий мундир с полковничьими погонами.
Я отклонил такое предложение и сказал, что не хочу быть по отношению к своей стране предателем. Потом добавил, что господин Гудериан, окажись он на моем месте, наверное, поступил бы точно так же. Гитлеровский генерал с брезгливостью ответил: «Этого случиться не может. А вам, Малахов, теперь надо учитывать сложившуюся критическую обстановку для России. Сейчас каждому мало-мальски правильно мыслящему военному, к какой бы воюющей стороне он ни принадлежал, ясно одно: в войне победит Германия».
После этого Гудериан рекомендовал хорошо подумать о сделанном мне предложении и не спешить с ответом. «Вам надо сначала отдохнуть, а уже потом отвечать на такие предложения», – сказал он.
Майор Яровенко прервал рассказ Малахова и спросил:
– Какие ещё вопросы задавал вам Гудериан? К чему он проявлял интерес, что спрашивал тогда о командовании нашего бывшего Юго-Западного фронта?
– Никаких других вопросов Гудериан мне не задавал, – ответил Малахов. – Он лишь спросил, где моя семья. Я ему ответил. А потом он перешел на воспоминания о наших прошлых встречах на учениях. Но об этом мы говорили недолго. И он предложил мне идти отдыхать.
Хозяйка квартиры, на которой разместили Малахова в Конотопе, видимо, в прошлом была учительницей немецкого языка. Она разговаривала теперь с ним только на немецком и проявляла заботу не только о его пище, но и о «духовном» воспитании. При каждой беседе она находила предлог похвалить немцев. Охрану этого дома нёс часовой.
– Дней пять меня не беспокоили, – продолжал рассказывать Малахов, – а затем снова пригласили к Гудериану. На этот раз в его кабинете находился майор. Как потом мне стало известно, это был разведчик из ведомства адмирала Канариса. Фамилия его Фурман. Я её точно запомнил, так как на немецком языке она означает «извозчик». Фурман родился в Одессе, но в юности выехал в Германию. Он хорошо говорил по-русски.
Гудериан напомнил мне о его недавнем предложении. Я опять ответил отказом служить в гитлеровской армии. Тогда Гудериан ехидно улыбнулся и спросил: «Что же в таком случае нам с вами делать? Чего же вы хотите?» Я молчал. И в разговор вступил Фурман. «Может, вы хотите быть на стороне Красной Армии?» – спросил он. «Да, хочу», – ответил я. «Это можно сделать, – заявил Фурман, – только и на той стороне вам придется работать на господина Гудериана». Я ответил: «Нет, этого не будет». После такого ответа Фурман с разрешения Гудериана ушел. А Гудериан снова стал меня убеждать в ошибочности принимаемых мной решений. Он говорил, что война выиграна Германией и я, не соглашаясь с их предложениями, лишаю себя благ, которые мог бы получить после войны. Следовательно, не думаю о своем будущем.
Я молчал, в полемику с ним не вступал. Тогда он вызвал адъютанта и меня снова проводили на квартиру.
Прошло ещё недели две. Штаб Гудериана уже выбыл из Конотопа, а я под охраной продолжал жить у «заботливой» хозяйки. Затем в Конотоп дошли слухи, что гитлеровцы взяли Харьков. И дня через три за мной пришла легковая автомашина с двумя сопровождающими. Ехали мы часов шесть молча. Вечером оказались в городе Севск Брянской области. На ночлег меня определили в школу. А утром я вновь был принят Гудерианом. Он очень спешил, но снова спросил меня о моем решении. И я снова ответил отказом. Тогда Гудериан сказал, что он понимает меня и по отношению ко мне, как старому знакомому, сделает гуманный шаг. Он не будет передавать меня в гестапо, а отпустит из плена с единственным условием: не возвращаться в расположение советских войск, а остаться на жительство где-нибудь на занятой немцами территории. И сам же назвал такое место – Харьков. Он сказал, что на харьковских заводах будут ремонтироваться танки, а возможно, и производиться новые. Если я соглашусь, то он отдаст распоряжение предоставить мне там «большую работу». Я ответил, что «большой работы» принять не готов. И было бы лучше, если бы мне разрешили выехать под Харьков, на станцию Мерефа, Жить там у моего хорошего знакомого и работать слесарем. Гудериан спросил: «Кто этот знакомый?» Я назвал Григория Федотовича Котько – дальнего родственника моей бывшей жены. Гудериан что-то записал и сказал, что я получу ответ дней через пять. Но я его получил уже через два дня. Мне разрешили выехать в Мерефу, выдали аусвайс, обязали по прибытии туда в двухсуточный срок зарегистрироваться в комендатуре города.
Так я оказался у Котько. Он и его жена немало были удивлены моему появлению. С ними я не виделся лет пять. Я им рассказал лишь о том, что, будучи контуженным на фронте, попал в плен к фашистам, где всё время болел. Меня отпустили из лагеря с условием, что я буду проживать на оккупированной территории у кого-то из своих родных или знакомых. Я выбрал их.