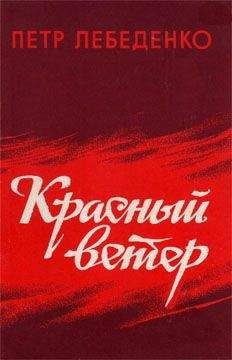— В том числе и капитана Шулыу? — подсказал Петр Никитич.
— Если честно, то и капитана Шульгу. На фронте он был бы нужнее, но капитан Шульга сам за себя решить ничего не может. А вот что касается летчика Андрея Денисова… — Денисио остановился и преградил дорогу командиру эскадрильи. — Петр Никитич, дорогой, я очень прошу вас, очень. Неужели вы не понимаете, как все мне здесь насточертело! Разве вы сомневаетесь, что мое место давно там? Ведь не сомневаетесь, я знаю. Так почему же, Петр Никитич? Почему?
— Хочешь, чтобы ответил прямо?
— Конечно.
— Тогда слушай. Первое: все время надеюсь, что меня, наконец, пошлют на фронт. Не имеют права держать здесь столько времени. И тогда командиром станет опытнейший летчик Андрей Валерьевич Денисов. И второе: не хочу с тобой расставаться. Слишком привязался к тебе. Понимаешь? По-человечески — понимаешь? После Лии ты самый близкий мне человек. Наверное, не стоило мне об этом говорить тебе, но уж раз такой разговор состоялся…
Денисио сказал:
— Спасибо вам, Петр Никитич, но… Если я близкий вам человек, то вы ведь должны считаться с моими желаниями.
— А кто будет считаться с моими?
— У нас не все одинаково, Петр Никитич. Если по-честному, у меня больше прав, чем у других.
— Почему?
— Почему? Фашисты убили моего отца. Вы это знаете. Его убили немецкие летчики. Разве я не должен свести с ними счеты?
— Придет время — сведешь, — сказал командир эскадрильи. — Война не завтра кончится…
— Но не вчера она и началась, — ответил Денисио. — Уже год, как она полыхает, год, Петр Никитич. И каждый раз вы говорите мне одно и то же: «Придет время, придет время…» Когда же оно придет?
— Не наседай на меня, Андрей, — попросил капитан Шульга. — Не наседай. Думая о себе, думай и о других. Обо мне, например. Я такой же человек, как и ты. Иду иногда по городу, ловлю на себе взгляды таких, как эти вот двое, и тошно становится. Знаю ведь, что они обо мне говорят: «Тыловая крыса. Укрылся за броней… Мы там кровь проливали, а он тут, паразит, и в ус не дует…»
Такой разговор происходил между ними не первый раз, и капитан Шульга видел и чувствовал, как в Андрее все больше накапливается против него раздражение, которое Андрею не всегда удается скрывать. Нет-нет, да и прорвется оно то в слове, то в жесте, то в брошенном взгляде, и хотя Петр Никитич понимал, откуда оно идет, это раздражение, все равно оно обижало его, а Андрей этой обиды вроде бы не замечал, а если и замечал, то, казалось, не придавал этому никакого значения, что обижало Петра Никитича еще сильнее.
Бывало, капитан Шульга принимал решение: как только придет из штаба училища распоряжение об откомандировании очередного летчика на фронт, он обязательно даст Мезенцеву указание оформлять документы на Андрея Денисова. В конце концов он, капитан Шульга, обязан понимать чувства человека, у которого погиб отец и который не может не думать о том, чтобы не отомстить за него. Было бы наоборот неестественным, если бы он об этом не думал.
Но вот такое распоряжение приходило, начальник штаба Мезенцев, помня указание командира эскадрильи о том, что летчика Денисова пока трогать не следует, оформлял документы на кого-то другого, и Петр Никитич ничего не говорил, давая самому себе слово, что уж в следующий раз он обязательно пойдет Андрею навстречу. Может быть, все это так и тянулось бы до бесконечности, если бы однажды, когда на Тайжинск уже легли густые сумерки и Петр Никитич собирался ехать с аэродрома домой, дежурный по штабу вдруг выбежал из помещения и крикнул:
— Товарищ командир эскадрильи, вас срочно к телефону.
Звонили из НКВД. Сам начальник городского отделения майор Балашов. Поздоровавшись, майор спросил:
— Ты сейчас домой?
— Собираюсь, — ответил Петр Никитич.
— А ты мне очень нужен. Где мы встретимся? Приглашать тебя в свое заведение мне не хочется. Может, у тебя дома?
— Договорились, — согласился Петр Никитич. — Через час.
Приехав домой, он попросил жену:
— Быстренько сообрази что-нибудь на ужин — будут гости.
— Много?
— Да нет, один — Алексей Федорович Балашов.
— Ну, этому человеку я всегда рада, — улыбнулась Лия Ивановна.
— По рюмке выпьете?
— Кто ж это из православных людей принимает гостей без рюмки? — засмеялся Петр Никитич.
Майор НКВД Балашов обычно сам сидел за рулем своей видавшей виды «эмки», хотя водительских прав не имел ввиду того, что левая его рука была изрядно покалечена. Как он ни убеждал членов медкомиссии, что покалечена она не настолько, чтобы не помогать правой управляться с рулем, прав на вождение автомобилем ему не давали. В конце концов он сказал: «Черт с ними, с правами, обойдусь и без них. Кому захочется связываться с майором НКВД?»
Вот и сегодня он подкатил к дому капитана Шульги без водителя, выключил фары, заглушил мотор и, по привычке держа левую руку в кармане, направился к калитке, ведущей во двор. А навстречу ему уже поспешал Петр Никитич. По-дружески обнявшись, они вместе вошли в дом. Там их уже поджидала Лия Ивановна. Балашов галантно склонился к ее руке, хотел приложиться к ней губами, но раздумал, обнял Лию Ивановну за плечи и поцеловал ее в щеку. Петр Никитич нарочито сердито проговорил:
— Думаешь, если ты работаешь в таком ведомстве, так тебе все дозволено, в том числе и целовать чужих жен?
— А почему нет? — тоже нарочито серьезно ответил Балашов. — Будешь трепыхаться, заведу дело и — фьюить, подальше с глаз долой, чтоб не путался под ногами.
— Ладно уж тебе, Торквемада, — шутливо заметила Лия Ивановна. — Будешь пугать — лишу ужина.
Майор взглянул на стол, где на блюде красовались поджаренные рябчики, аппетитно смотрели на него маринованные грузди и моченые яблоки, а в хрустальном графине алела клюквенная настойка, взглянул и сказал:
— Каюсь. Никаких дел заводить не буду, даже если узнаю, что капитан Шульга плетет какой-нибудь заговор. Только не лишайте ужина.
Не так уж часто бывал в этом доме Алексей Федорович Балашов, но каждый раз, когда ему приходилось встречаться здесь с Петром Никитичем и Лией Ивановной, он испытывал необыкновенное чувство покоя, какой-то раскованности и умиротворения, будто все, чем он жил вне стен этого дома, жил чрезвычайно сложной, чрезвычайно беспокойной и опасной жизнью, оставалось далеко позади за непроницаемой ширмой, начисто стиралось из памяти, пусть даже не на долгое время: все равно душа отдыхала от тревог и волнений, а это Алексею Федоровичу было так необходимо. Необходимо ему было и облегчить душу от постоянно накапливающейся в ней злой накипи, порожденной раздвоенностью своего существования. К тому же здесь — и только здесь! — Алексей Федорович имел право быть самим собой, не опасаясь как-то нечаянно раскрыть свою истинную сущность, что могло бы привести к неминуемой его гибели.
Капитан Шульга поднял рюмку, посмотрел на жену, перевел взгляд на Балашова и сказал:
— Ну что ж, давайте за тех, кто сейчас там… — хотел что-то добавить, но только прикрыл глаза, три-четыре секунды посидел молча и лишь затем выпил. Выпил и майор Балашов, а Лия Ивановна, пригубив, поставила рюмку на стол и сказала:
— Утром видела Полинку… Глянешь на нее — сердце разрывается. То смеется, то плачет, то вдруг начинает говорить, что получила телеграмму от Федора, из которой тот сообщает, что едет домой, а через минуту-другую в глазах, полных слез, смертная тоска и бескровные губы шепчут: «Нету Феди… Нету и никогда не будет»…
Лия Ивановна поднесла к глазам платок, помолчала, потом предложила:
— Видела я ее сегодня на базаре. Подошла к ней, спросила: «Что-нибудь купить хочешь, Полинка?» Отвечает: «Нет, кофточку вот свою вязаную продаю. Продам, а тогда уж мяса куплю, пельменей с Марфой Ивановной наделаем. Знаете, как Федя пельмени любит! Ему ничего другого и не давай, лишь бы пельмени были… Вот только мясо теперь дорогое. Да уж как-нибудь… Лишь бы к вечеру успеть, Федя-то вечерним поездом приехать должен…» Весело все это говорит, чувствуется, что радостью полна от ожидания встречи с любимым человеком.
— Бедняга, — покачал головой Алексей Федорович. — Изломала ее судьба-судьбина. — Хотела я немного денег ей дать, — Продолжала Лия Ивановна. — Она даже руками замахала. «Что вы, — говорит, — разве можно! Федя узнает, заругает. Федя знаете какой… Он…» И вдруг замолкла, смотрит на меня, а я вижу, как глаза ее становятся совсем другими. Только вот сейчас в них этакая совершенно бездумная веселость была, и вот заволакиваются они смертной тоской, и становится ясно, что вызвана эта смертная тоска вдруг пробившейся осмысленностью, откуда-то вдруг прорвавшимся ясным сознанием действительности. Я и сама не знаю, как сдержалась, чтобы, глядя на нее, не разреветься. Взяла ее за руку, говорю: «Пойдем ко мне, Полинка, посидим, чаю попьем. И Петр Никитич рад будет видеть тебя…» «Петр Никитич? — спрашивает на минуту задумавшись, будто что-то припоминая. — Петр Никитич?.. Петр Никитич?.. Федя очень любит Петра Никитича. И я его очень люблю. А Денисио говорит, что Петр Никитич человек не совсем справедливый. Если бы он был справедливым, — говорит Денисио, — то давно отпустил бы его на фронт». Господи, гляжу я на нее, она уже опять улыбается, опять затмение, а у меня ком в горле…