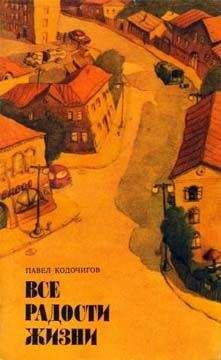Бросил гранату и под прикрытием ее взрыва перебежал в другую воронку.
Встретиться с четырьмя пулеметами немцы не ожидали, но и отступать не хотели. Залегли и вызвали огонь минометов, а мины без доброй крыши над головой пострашнее снарядов — падают густо, осколки по земле стелются. Мины и в воронке достать могут. Лейтенант опустился вниз, где уже начала копиться вода, саперной лопаткой вырыл углубление, вдавился в него спиной, подобрал ноги, ступни укрыл комом земли. Больше для своего спасения он ничего сделать не мог. Тут уж как повезет. И ему повезло третий раз за день. Осколки залетали в воронку, шипели, попадая в воду, но ни один не задел его.
Еще три раза поднимались немцы в атаки, кое-кому удалось даже достигнуть полуразрушенных траншей, но смельчаков выбивали с захваченного рубежа, постоянно меняя позиции, пулеметным огнем да гранатами Евдокимов и Кузнецов, на нейтральной полосе не давали поднять головы пулеметы соседей, а когда на помощь пришла полковая артиллерия, прорвались сквозь заградительный огонь врага свои разведчики, фашисты бежали, оставив на поле боя свыше шестидесяти трупов...
В конце октября деревенская почтальонка, пряча глаза от Марии Ильиничны Евдокимовой, протянула ей письмо. В конверте! Номер полевой почты 5781 был Ванюшкин, а адрес написан чужой рукой. И защемило в предчувствии беды материнское сердце.
— Что в нем? — спросила почтальонку не своим, вдруг осевшим голосом, разорвала конверт торопливыми руками, стала читать четкие, отпечатанные на машинке строчки:
«Уважаемая Мария Ильинична!
Ваш сын, Евдокимов Иван Васильевич, находясь на фронте борьбы против германского фашизма во вверенном мне полку, проявил себя стойким и мужественным, беспредельно преданным партии Ленина — Сталина и социалистической Родине воином Красной Армии. Участвуя в отражении вражеских атак, Ваш сын проявляет мужество и героизм, своим личным примером воодушевляет бойцов на выполнение поставленных задач и, как смелый и мужественный командир, пользуется любовью и уважением среди личного состава полка...»
Прочитала вслух, и задохнулась от счастья, и, еще не до конца веря этому, все еще ожидая самого худшего — вон сколько похоронок пришло в Вельяминово с фронта, — впилась глазами в конец письма — если что плохое, то там.
«Вам, русской женщине, за воспитание такого храброго воина от командования полка большое спасибо! Вы можете быть спокойной за своего сына, можете честно и добросовестно трудиться на благо Родины и знать, что Ваш труд, Ваш отдых крепко охраняют бойцы Красной Армии, в первых рядах которой находится Ваш сын Евдокимов И. В.
Командир 299 сп
подполковник Петров
9 октября 1942 г.»
Подняла голову, схватила за рукав почтальонку:
— Да подожди ты, быстроногая! Какой человек-то, а? Какой человек — Ванюшкин-то командир! Нашел время. Сам написал! Ой, побегу — своих надо порадовать. А Ванюшка-то мой цел, выходит. Цел! О нем как о живом пишут.
* * *
А в тот самый день, вернее, вечер, когда отогнали фашистов, Евдокимов не узнал старшего сержанта Кузнецова — до того был тот худ, черен, до того неуверенно держался на ногах. И Кузнецов не узнал своего лейтенанта — тот выглядел не лучше. Поразглядывали друг друга, обнялись и, не сговариваясь, выдохнули:
— Пи-и-ить!
Припали растрескавшимися за день губами к фляжкам и не могли оторваться от них, пока не выцедили до последней капли воды.
* * *
Представления о наградах командир полка сделал незамедлительно, но Марии Ильиничне об этом не написал — вдруг не пройдут. Прошли. Лейтенант Евдокимов и старший сержант Кузнецов за этот бой были удостоены орденов Красного Знамени!
* * *
Комбат Иван Васильевич Евдокимов пришел в себя утром. Прислушиваясь к острой, пронзительной боли в правом плече, возвращаясь к жизни, скосил глаза на повязку и стянул простыню с правой руки. Рука была цела, но капитан ее не чувствовал. Даже не мог согнуть пальцы. Перебит где-то нерв... И на том спасибо! Могло быть хуже, а руку ампутировать он не даст. Не даст! Осторожно потянулся — разорванное плечо откликнулось на движение новой, все нарастающей болью. Капитан закрыл глаза.
После форсирования неширокой, но быстрой и глубокой пограничной реки Утроя дивизия преследовала отступающего противника на латвийской земле, то и дело вступая с ним в скоропалительные схватки.
Вчера он шел со своим вторым батальоном впереди дивизии. В указанном командиром полка месте, на опушке рощи, остановил батальон на кратковременный отдых, а впереди, в каких-то пятистах метрах, дозорные обнаружили большое скопление противника и даже два танка. Силы были явно неравные, но фашисты не ожидали столь скорого появления здесь русских и вели себя беспечно. Танкисты даже загорали на броне своих машин.
О сложившейся обстановке он доложил по радио командиру полка. Встреча с немцами была неожиданной и для него.
Полковник Слесаренко приказал:
— Пока в бой не ввязывайтесь.
Ждать под носом у противника, когда даже покурить нельзя, пришлось долго и слушать, без конца слушать немецкие голоса, стук топоров, визжание пил. Нелегкий выдался денек.
Приказ выбить противника из хуторов и рощи пришел вечером. Это помогло скрытно выйти к шоссе и обрушиться на немцев внезапно. Танки не успели сделать и выстрела. Четвертая рота быстро овладела рощей, пятая очистила от врага овраг, шестая ворвалась в правый хутор. Однако, как всегда, немцы пришли в себя быстро, подбросили свежие силы и стали теснить четвертую роту. Судя по вспышкам, бой там покатился в обратную сторону.
Он развернул пятую роту, уже подходившую к хутору, для флангового удара по роще и сам побежал в цепи атакующих. Прямо на него плеснуло пламя, вырвавшееся из недалекого пулеметного ствола. Его сильно, будто кувалдой, ударило в плечо, бросило на землю. Больше он ничего не помнил, не знал, что с его батальоном, как закончился бой и закончился ли.
Осторожно повернул голову — нет ли в палате своих? Не увидел. Плечо, казалось, поджаривают паяльной лампой. Порой чудилось, что десятки пчел впились в него, поэтому плечо и разбухает на глазах, впиваясь в повязку. Он знал, что боль будет держаться долго и надо к этому привыкать, приучать себя к мысли, что так и должно быть и надо терпеть, тер-пе-еть, а разорванная живая ткань, обнаженные нервы молили о помощи, кровоточили, пульсировали, будто кто-то методично отщипывал от плеча маленькие кусочки.
Два года назад, в первые его окопные дни, бойцы рассказывали фронтовое поверие:
— Бойтесь первой пули, товарищ лейтенант, потом четвертой и седьмой. Остальные — ерунда.
— Как это? — не понял он.
— На фронт страшно идти первый раз. Чувствуешь себя слепым кутенком, которого и ненароком раздавить могут. Новенькие, между прочим, чаще всего и гибнут. А если первая пуля и осколок только поцелуют, то до четвертого ранения можно жить спокойно — редко кого в это время убивает. Пронесет на четвертый, еще два раза может ранить, а убить должно на седьмой раз. Не знаем почему, но так чаще всего получается.
Позднее не раз приходилось слышать то же самое. Примеры приводили, о себе рассказывали, о том, как трудно возвращаться на передовую после третьего или шестого ранений.
— Вперед топаешь, а сердце назад рвется, как на казнь идешь.
Какое по счету ранение у него? Летом сорок второго года по каске ударили сразу три разрывные пули. Обычные — пробили бы тонкую сталь. Пройдись та очередь чуть пониже, задень какая-нибудь пуля гимнастерку, тоже неизвестно, чем бы дело кончилось. Разрывные — они страшные, раны наносят большие. Повезло ему тогда.
В марте сорок третьего, уже командиром роты был, ранило осколком в спину. С поля боя вытаскивал ординарец. Неумело тащил, как-то боком, обхватив руками грудь. Дышать было нечем, казалось, что вот-вот задохнется и умрет не от осколка, еще неизвестно что натворившего, а от недостатка воздуха, но он из последних сил помогал своему спасителю, отталкиваясь от земли ногами. Так и добрались до санитарной роты.
Следующее ранение получил в январе сорок четвертого, когда освобождали Новгород. Батальоны полка вышли на шоссе Шимск — Новгород и оседлали его, отрезав пути отхода в этом направлении. Его рота оказалась на правом фланге, он лежал в цепи первым от города, а от деревни Воробейка пыталась прорваться к городу легковая машина «БМВ» шоколадного цвета. По ней начали бить, едва она выскочила из деревни, и он был последним, кто мог остановить ее, а остановить надо — наверняка офицер или несколько офицеров решились на такой отчаянный шаг. Бросил гранату. Машина крутанулась на дороге и встала. Шофер и сидящий рядом с ним офицер в кожаном коричневом пальто с меховым воротником признаков жизни не подавали. Он побежал к «беэмвушке», чтобы забрать документы, рванул дверцу. Офицерский автомат ожил, дернулся снизу вверх: одна пуля — в пятку, другая — в бедро, третья — в лицо. В мозгу полыхнуло фронтовое поверие. И протест: «Вранье все! Второе же ранение, пусть третье, и уже конец?!» Он повалился на стрелявшего и, теряя сознание, вцепился в него зубами. Его вытащили, спасли, даже Красной Звездочкой наградили, и он снова вернулся на фронт. Выходит, правильно говорили солдаты.