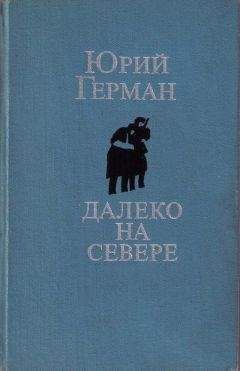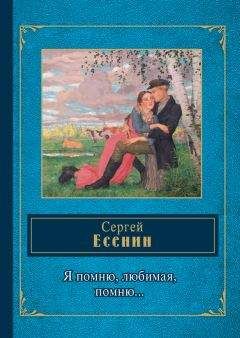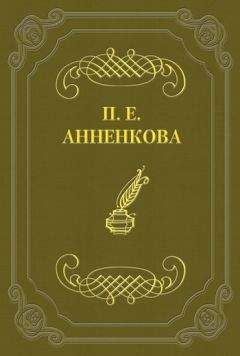А на соседних кораблях, преимущественно небольших, здешней флотилии стоят матросы и завистливо ленивыми голосами переговариваются на наш счет.
У нас лает наш Долдон, отчего крольчонок в кают-компании пятится под кресло, льются из репродуктора звуки вальса и постукивают офицеры костяшками домино. Все уже побрились, и полили вымытые под душем головы одеколоном, и надели на себя все вычищенное и отутюженное, но делают такие лица, как будто бы никуда не собираются, а просто вот так будут сидеть и играть в домино, сидеть и играть, и ничего им больше но нужно.
Сергей Никандрович — командир — похаживает по кают-компании, скрипя батманами, сложив руки за спиною, и, пожав плечами, вдруг спрашивает:
— А вы это чего, собственно, молодые товарищи, вырядились? Товарищ капитан медицинской службы? Вы что это кообеднешнее платье-то надели? Куда собрались?
Лева, несколько порозовев, встает:
— Так, собственно…
— Ничего не собственно…
Сергей Никандрович уже получил семафор насчет распорядка сегодняшнего вечера, но в эти последние минуты перед отпуском офицеров на берег он не может отказать себе в удовольствии поязвить:
— Собрались. Вырядились. А куда? За какими удовольствиями? Нет того, чтобы тихо, мирно на корабле чайку попить, да книжечку почитать или в шахматы какую-либо партию Капабланки изобразить…
Я с удовольствием слушаю его ворчливый голос. Сергей Никандрович потомственный моряк, из хорошей морской семьи, и любовь его к кораблю, именно к своему кораблю, к жизни на своем корабле — мне необыкновенно приятна. Я знаю, что в его ворчании есть горечь. Он ревнив, это я замечал не раз, и всегда ревнует своих офицеров к земле и обижается за корабль, когда слишком много пароду отправляется гулять.
Наконец команда списывается. Стоя у леера возле своего салона, я смотрю, как люди цепочкой сбегают на пирс и один за другим тают в сумерках белой, весенней ночи. Уходят с кортиками, лихо посадив фуражки, натягивая перчатки, офицеры. Низкий женский голос поет по радио:
Хочу любить,
Хочу всегда любить…
— И что думают, и что поют, — сердится за моей спиной Сергей Никандрович.
— А что? — спрашиваю я.
— Дети, же слушают, — говорит командир, — безобразие, честной слово…
Потом мы играем в шахматы, потом пьем чай. А попозже я спрашиваю:
— Что, Сергей Никандрович, не сходить ли нам в город, проветриться?
— Проветриться? — пугается командир. — Какой же там ветер, товарищ комдив. Там пыль в трамваях, толкотня, там плюются…
— Да мы недалеко.
— Куда же это недалеко?
— Гаврилова навестим. Он ведь и не знает, что мы пришли. Все-таки зайдем, посмотрим, как все их дети живут.
Гаврилова навестить командир соглашается. И мы решаем завтра после ужина идти в гости. Уже когда я укладываюсь спать, входит Сергей Никандрович с предложением взять с собою завтра Долдона и крольчонка тоже.
— Пускай ребята посмотрит, — говорит он, — им интересно. Долдон — дурак дураком, конечно, но все-таки кроме серости своей может, если очень на него напереть, лапу подать, и голос подает тоже, и вообще… гавкает здорово…
— Ну, а крольчонок?
— А крольчонок просто… естество свое покажет. Может, они крольчат не видели. Капусты при них пожрет…
— Что ж, — говорю, — возьмем и крольчонка. А для Долдона кость возьмем, пускай ребятам покажет, как кости грызет…
Командир вместе со мною посмеялся и ушел спать. А на следующий вечер мы отправились в гости.
К Зое мы с Сергеем Никандровичем припожаловали так это часу в начале девятого. Сергей Никандрович пес в плетеночке крольчонка нашего корабельного, Пампушку, который, несмотря на свой немолодой возраст, почему-то все числился у нас крольчонком, а я вел на поводу дворнягу Долдона, и мы с командиром, несомненно, представляли собою странное зрелище.
Шли мы долго и путались сначала по какой-то улице имени Выучейского, потом оказались на Петроградском проспекте, где командир едва не сломал себе ногу в колдобине деревянной мостовой, потом по бревнам, которые хлюпали на болоте, свернули еще в переулок и, наконец, вместе с нашим бродячим зверинцем, вышли к флигелю на задах большого двора, где и проживала «эвакуированная». Так нам обозначила Зою Васильевну девочка, коловшая полено у самого крыльца.
Семейство Гавриловых мы застали в то время, когда и муж и жена купали своих детей в большом корыте, поставленном на стол. В комнате было жарко и парно, двое вымытых детей сидели валетом в кровати и ели кашу из глиняной мисочки, а двое невымытых сидели так же валетом в другой кровати и ничего не ели, а дрались под одеялом ногами. Крепкий мальчик на толстых ногах стоял в корыте, весь облепленный мыльной пеной, и сердито отплевывался, а над ним трудились Зоя и инженер-капитан-лейтенант. Гаврилов при этом говорил, что ему трудно, так как Петр сейчас скользкий и норовит выпасть, а Зоя отвечала, что очень скоро Петр уже не будет скользким и что потерпеть осталось немного. Появление наше с Долдоном произвело эффект разорвавшейся бомбы. Дети запрыгали в кроватях и завизжали. Петр сунулся вперед и только чудом не грохнулся вместе с корытом. Долдон подал голос так, как это он умел делать в открытом море у камбуза, выпрашивая мосол, и поднялась такая веселая и громкая сумятица, что мы даже немного испугались, но тут же выяснили, что сумятица этого типа здесь дело привычное, будничное и что надо только затворить за собой дверь, и тогда вовсе будет хорошо.
Зоя нисколько не была замучена, или зла, или сурово озабочена, как бывают обычно замучены мамаши, имеющие много детей, и не кричала, что «дует», или что «шпарит», пли что «застудится», а стояла веселая у своего корыта и с скребла Петра мочалкой, причем Петр нисколько не ревел и не выл, а только разевал рот и очень редко издавал короткий, скрипящий звук, изобличающий, что ему приходится довольно-таки туго под крепкой мочалкой и что он рад бы кончить всю эту несколько затянувшуюся историю, но что на нет суда нет, и коли надобно, то он свое отмучается.
Вымытому и прополосканному свежей водой из ковшика Петру надели на голову чепчик и посадили на ту кровать, где сидели вы мытые дети. Мы с Гавриловым вынесли корыто и налили в него чистой воды, после чего в чистую воду было пущено следующее дитя. А Петр ел свою кашу, сушился и смотрел на Долдона, который подавал Сергею Никандровичу лапу и гавкал таким окаянным голосом, что в степном шкафчике позвякивали стаканы…
Здесь же по полу бродил Пампушка, подкидывал свой короткий хвостик и вертел носом. Петр смотрел на Пампушку не без интереса, потом, зевая, спросил:
— А он что может?
Сергей Никандрович виновато сказал, что, пожалуй, ничего и не может.
— Глупый? — молвил Петр.
— Да уж вот, брат, каков есть…
После того как дети были вымыты и все после мытья было убрано, Зоя постелила на стол чистую простыню, и вдруг оказался целый ужин, и даже с водочкой, и с квашеной капустой, и с какой-то необыкновенно вкусной жареной рыбкой. И все это накрывалось и делалось не только легко, но с радостью, точно мы были жданными и дорогими гостями, и в то же время без единого сладкого слова, которое могло быть, казалось бы, произнесено в присутствии командира корабли и командира дивизиона. И Зоя при этом все улыбалась своей милой, открытой улыбкой, и ясные глаза ее так и лучились приветливым, добрым светом. Гаврилов, похаживая по комнате с палочкой, помогал ей подавать и убирать, лазал куда-то, в какую-то темную дыру, за капустой, и все было нам весело, смешно, славно в тот вечер. Долдон прилег под стол и ударил хвостом по столу так, что повалилась пустая бутылка, — смешно, Пампушка попробовал съесть бумажку — тоже смешно. И старшие дети, которые еще не спали и никак не хотели спать, тоже смеялись вместе с нами…
Помню, я спросил:
— Зоя, какие же ваши, а какие,…
Опустив глаза, смутившись, она быстро, негромко ответила:
— Это ведь неважно… право… — И еще больше смутилась.
После этого мы с командиром стали ее спрашивать, как ей живется, а она отвечала, улыбаясь глазами, все одно и то же:
— Сейчас очень хорошо. Сейчас прекрасно. Ну, а раньше было иногда, случалось, не очень хорошо. Нет, теперь-то хорошо…
Водочку мы выпили всю до капли, и командир даже подоил бутылочное горлышко и посетовал, что хорошо бы еще по чуть-чуточной, как вдруг нам поставили еще и опять подали капустки, и тертой редьки с луком и с подсолнечным маслом, и картошки, чтобы мы угощались. Понемногу мы все-таки разговорили Зою, и она, сметая пальцами перед собою крошки, ровным голосом, то улыбаясь, то смахивая слезинки с глаз, поведала нам все то, что довелось ей перенести. Я сказал — все — это, конечно, неверно, какое там все, она, разумеется, не рассказала нам и десятой доли пережитого, да ведь, с другой стороны, что тут можно и рассказать?