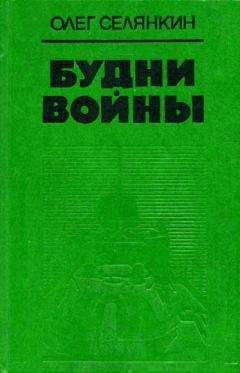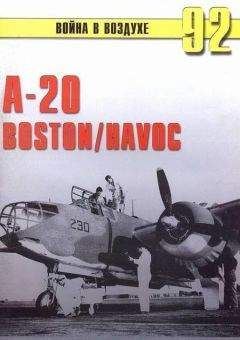Измаялись — до последней капельки сил. Поэтому, увидев разлапистую ель, обосновавшуюся в густых зарослях младших сестренок, Савелий осторожно провел к ней Лазарева, помог опуститься на землю, щедро усыпанную порыжевшими от времени иглами и шишками, давно освободившимися от семян.
Савелий одну из шинелей положил на землю, чтобы второй прикрыться, как одеялом, и сказал:
— Ложись, Лазарев, набирайся сил на завтрашний день.
— А ты?
— Малость посижу, подумаю, пораскину мозгами и рядом с тобой пристроюсь.
Лазарев послушно лег, но чувствовалось, он напряженно вслушивался в шумы леса, а еще больше, с обостренным вниманием, ловил каждое шевеление его, Савелия.
Чтобы прервать затянувшееся тягостное молчание, Савелий спросил:
— Слышь, Лазарев, а как тебя дразнят?
— Кучерявый, — после небольшой паузы ответил тот.
Савелий сначала опешил, услышав такое. Потом внутренне усмехнулся и сказал, глубоко спрятав свои чувства:
— Извили, брат, я не совсем точно выразился. Мне твое человеческое имя знать желательно.
— Никола… Остальное-то добавлять? Адрес домашний и все прочее? Так-то правдивее брехня будет, когда, убежав от меня, к нашим пробьешься, наши общие страдания, чтобы у некоторых слезу выжать, расписывать станешь.
Савелий ответил хрипловатым от волнения голосом:
— Ты, Никола, дурацкие мысли в голове не держи. Вместе к своим явимся или… Не будет этого «или», слышишь? Не будет!
— Язык, известно, без костей.
Вот, что называется, и поговорили душевно…
А фронт вроде бы стоит. Выходит, наши чуток отступили и опять уперлись ногами в землю. Ишь, фашисты ведут только методический обстрел, а наши пушкари подают голос и того реже.
Всю ночь они лежали рядом под одной шинелью. Перед рассветом, когда под шинель пробрался сырой холодок сентябрьской ночи, чувствовали друг друга спиной, не шевелились без крайней необходимости, но не спали. Упорно думали каждый о своем. Лазарев — с ужасом о своей слепоте: жить-то как дальше? Разве это жизнь, если ты больше никого и ничего не увидишь? Кто слеп от рождения, тому, может быть, все же легче: он, вероятно, не так остро чувствует, чего лишен. А ослепнуть в двадцать годочков…
Главное же — что он, Николай, теперь делать в жизни может? Городской устроится в какую-нибудь артель или мастерскую, специально для слепых созданную государством, и будет творить посильное. А он — колхозник, ему за плугом ходить положено, стога метать, хлеба косить и еще многое прочее, без чего в деревне не прожить, ежедневно делать надо. И все эти такие обычные и необходимые работы зоркого хозяйского глаза требуют. Вот и выходит, что, потеряв глаза, он не кормильцем, а нахлебником в родной дом вернется…
Так тошно было от этих мыслей, что на мгновение даже подумалось: а не оборвать ли вообще жизненную тропочку? На самое короткое мгновение посетила его эта думка, и сразу родилось неистребимое желание жить, жить во что бы то ни стало! И он с неприязнью, почти с ненавистью подумал о Савелии: если бы рядом был не этот приблудный флотский, а кто-то из товарищей, он, Николай, наверное, и минуты не сомневался бы в том, что тот не бросит его в беде, слезами и потом изойдет, но доставит к своим, определит в госпиталь. А этот флотский…
Вчера, правда, он себя настоящим человеком показал… А вот кто с точностью скажет, как завтра, когда рассветет, он поступит? Может, смоется втихую, и все дела…
А голова нестерпимо болит, кажется, вот-вот от боли на части развалится. Раны — сами по себе, а она отдельно от них болит. Так сильно, что порой тошнота к горлу подступает и давит, давит, дышать нормально не дает…
Может, все это от мыслей безрадостных?
А у Савелия заботы пока сугубо житейские. Ведь вчера он основательно напортачил: ни самой обыкновенной воды, ни завалящего сухарика не взял с собой. Это непростительно прежде всего потому, что рядом искалеченный войной товарищ, у которого вся надежда только на него, Савелия.
Сейчас, ночью, вчерашнюю промашку, конечно, не исправить. Значит, всем этим займемся утречком, когда соответствующая видимость установится. И начнем с воды: есть на примете овражек, где должен быть родник или ручеек. Наполнить водой надо будет не только фляжку, но и каску Николая; в бескозырке, известно, воды не принесешь, из нее лишь напиться можно…
А вот с едой во много раз сложнее, ее добывать у фашистов придется. Уловить какого зазевавшегося и…
Однако на все это время надобно, время! А его кот наплакал: Лазареву, может, немедля врачебная помощь нужна? Может, если быстро врачи вмешаются, удастся спасти хотя бы один его глаз?
Эти вопросы Савелий мысленно и прокручивал всю ночь, плутал в них, не решаясь принять какое-либо окончательное решение.
Всю ночь мысли шли косяком. Одна серьезнее другой. Поэтому и прозевал момент, когда небо начало светлеть. Савелий просто вдруг удивился, что уже не угадывает, а отчетливо видит иголки на еловой ветке, нависшей над лицом. Он сразу сел, осторожно и заботливо подоткнул шинель под Лазарева и замер в нерешительности: будить Николая или нет? Пришел к выводу, что, обнаружив исчезновение его, Савелия, он и вовсе распсихуется, и еле слышно позвал:
— Никола… Ты спишь?
— Чего тебе? — немедленно отозвался тот.
— Понимаешь, прошляпил я вчера. Даже воды, чтобы напиться, не имеем…
— На фляжку мою намекаешь? С нашим удовольствием, бери. И вещевой мешок прихвати. Там безопасная бритва. Почти новая: перед самой войной купил.
Захотелось трахнуть Николая кулаком по башке, но сдержался, сказал как только мог спокойно, даже ласково:
— Только фляжку и каску дай. Тебе же воды принесу.
Не Савелию, ориентируясь на его голос, а в пространство Николай протянул то и другое, И Савелий понял, что сейчас, отдавая каску и фляжку, Лазарев мысленно прощался не только с ним, Савелием, но и с жизнью вообще. Стало до слез обидно, однако сказал ровным голосом, словно ничего не понял, не почувствовал:
— Думаю, около часа прохожу. И ты зря не психуй, как лежишь, так и лежи. Услышишь треск ветки под чьей-то ногой, шаги вообще или людские голоса — замри, не выдай себя шевелением.
Николай промолчал, будто и не услышал наказа. Савелий постоял, с укоризной глядя на него, потом, вздохнув, повернулся и зашагал к овражку, который приметил еще вчера, когда вел Николая сюда.
В овражке оказался родник, незамутненный войной. Савелий напился, по пояс вымылся и лишь тогда наполнил фляжку и каску холодной водой. Теперь вроде бы самое время возвращаться к товарищу, чтобы успокоить его, еще раз доказать, что не брошен он, однако искушение взглянуть — только взглянуть! — на вчерашнее поле боя было столь велико, что, спрятав каску с водой под куст, а фляжку прикрепив к поясному ремню, Савелий осторожно и в то же время решительно пошел к опушке леса.
А над головой гнусаво гудели моторы фашистских бомбардировщиков; они, как и вчера вечером, бомбили позиции полка, отступившего километров на пять.
До опушки леса оказалось чуть больше пятисот метров. А он вчера считал, что они с Николаем, как минимум, на километр в лесную чащобу углубились…
Пристроившись под молоденькой рябинкой, он осмотрел вчерашнее поле боя. Прежде всего увидел груду обгоревшего, искореженного взрывами металлолома; это было все, что осталось от множества грузовиков, тягачей, орудий и танков, несколько часов назад грудившихся здесь. С большой душевной радостью смотрел Савелий на это крошево.
Потом скользнул глазами вправо и на холме, чуть отступившем от шоссе, увидел ровные ряды новеньких деревянных крестов.
Что ж, давно известно: фашисты большие аккуратисты, они даже своих покойников шеренгами хоронят, даже им командуют: «Равняйсь!»
Не было на вчерашнем иоле боя трупов и наших солдат. Где они — нашел сразу: их сбросали в окоп, завалили землей и танками проутюжили то место. Зачем? Видать, ненависть фашистов так огромна, что и мертвых советских солдат они стремились раздавить многопудовой тяжестью.
Глядя на вчерашнее поле боя, он решил, что никакого фашистского вояку пока улавливать не надо, что продукты он обязательно найдет там, на кладбище фашистской боевой техники: хоть одна из тех машин да везла консервы или еще что-нибудь съедобное, хоть в одном из тех танков экипаж, бежавший в панике, да оставил что-то из еды. А много ли им с Николаем надо?
В мирной жизни дойти до тех машин и танков — минут десять хорошего хода. Но сейчас по шоссе снуют грузовики. К фронту — со снарядами, минами и патронами, обратно — порожняком или заполненные ранеными. Не часто, но проходят по шоссе вражеские машины. Вот и приходилось все время быть предельно осторожным. И Савелий более часа то полз окопом, то замирал, прижавшись всем телом к земле, пережидая, пока не стихнет рев мотора очередной машины; лишь раза два или три позволил себе короткие перебежки.