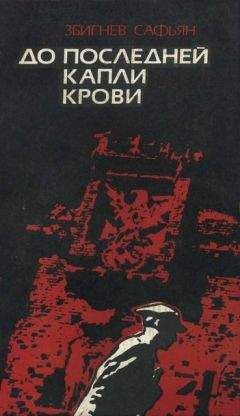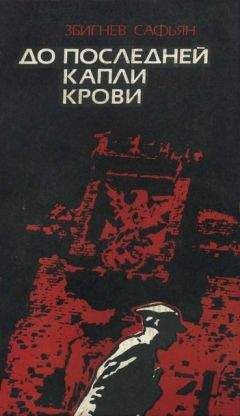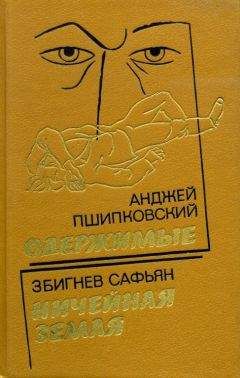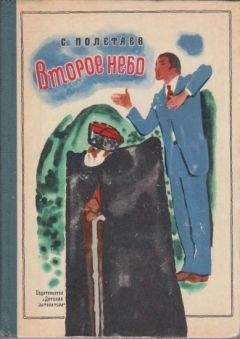В огромном кремлевском зале он видел Сталина, поднимавшего тост за великую, сильную, более крепкую, чем раньше, Польшу, и хотел верить этому грузину, острый взгляд которого из-под кустистых бровей смягчала иногда доброжелательная, возможно заученная, улыбка. Немцы стояли еще под Москвой, на заснеженных полях под Клином, Дмитровой, Яхромой, Рогачевом, Солнечногорском. Русские в неглубоких, наспех вырытых в затвердевшей земле окопах сдерживали натиск немецких танковых полчищ, а здесь, в ярком свете люстр, на мягких коврах, за банкетными столами, с рюмкой хорошего вина в руке, он, бывший военнопленный, бывший лесоруб, бывший враг, праздновал примирение, которое должно было быть прочным и открыть дорогу к Польше. Его пугала дальность этой дороги… Рядом со Сталиным стоял Сикорский. Рашеньскому хотелось услышать, о чем они говорят, прочитать их мысли.
Он мог попытаться воспроизвести их беседу, опираясь на воображение. И Рашеньский решил, что если останется в живых, то попробует сделать это, и хотя со временем его знания вряд ли пополнятся, такое воспроизведение все же станет возможным и даже необходимым. Он думал о будущем с надеждой, страхом и огромным желанием ускорить время.
Термометры в Москве показывали тридцать два градуса ниже нуля. Рашеньскому казалось, что этот заснеженный, стойко переносивший холод и нависшую над ним опасность город, которого Сикорский никогда не видел, но о котором много раз и по-разному думал, должен произвести на него сильное впечатление. Он ехал в Кремль на свою первую встречу со Сталиным, и нетрудно было представить себе эту поездку: пустая Красная площадь, собор Василия Блаженного, выглядевший как декорация, перекрещивающиеся высоко в небе лучи прожекторов. Он наверняка молчал, окидывая рассеянным взглядом улицы, по которым проезжали; молчал и сидевший рядом посол Кот. Возможно, перед своей первой беседой с человеком, который, вне всякого сомнения, был нелегким партнером, Сикорский не сдерживал своего воображения, не проговаривал про себя заранее придуманные фразы, а дал простор мыслям, словно надеясь, что в их беспорядочном нагромождении возникнут, как бы сами собой, решения, которые он искал. «Статус-кво, — слышал он голос Соснковского, — статус-кво до сентября 1939 года — вот основное условие наших переговоров с Москвой». «Условие? — рассмеялся Ретингер. — Если не подпишем с ними соглашения, то окажемся на задворках событий». «А границы?» — спросил Сеида. «Черчилль нас поддержит, даст гарантии; я не имею, по конституции, права обсуждать вопрос границ». Сидели в самолете, и Ретингер время от времени наклонялся к нему: «Вопрос о Москве еще не решен, генерал, надо проявить твердость».
«Что значит: проявить твердость? Англичане, несмотря на неоднократные просьбы и старания выделить снабжение польской армии в СССР из общего фонда поставок России, не выполнили наших требований. Можно ли действительно рассчитывать на поддержку англичан? А может, следует самому принять командование польской армией? Стать зависимым от Сталина?» Он снова вспомнил хату под Мозырем, где размещался штаб Пятой армии, разложенную на столе большую карту, на которой границы Речи Посполитой не были обозначены. Разглядывал ее так, словно искал четкую, жирную линию, отделяющую Польшу от России. Где она должна проходить? Еще дальше на восток? Пилсудский мечтал о федерации [17], он же, Сикорский, никогда в эту федерацию не верил, сражался за нее, но не верил. Так где же Польша? Увидел улыбающееся и всегда чересчур уж сердечное лицо Рузвельта. «Наши требования в отношении Восточной Пруссии являются условием независимого существования Польши», Президент вежливо соглашался: «О границах будем говорить после войны». Все равно эти вопросы будут решать победители, но окажется ли среди них человек, который ждет его сейчас в Кремле?
Ворота Кремля. Часовые отдают ему честь. Сколько же километров отсюда до фронта? У этого грузина, надо сказать, крепкие нервы.
Остановились друг против друга. Сталин улыбался, но его улыбка казалась холодной, а взгляд острым и проницательным. Сикорский обычно обращал внимание на внешний вид кабинетов — этот показался ему каким-то неопределенным, холодным, как глаза Сталина, и слишком уж ярко освещенным. Он заранее приготовил приветствие — переводчик переводил быстро и умело, — Сталину оно, кажется, понравилось, Молотову — тоже, но он краешком глаза увидел лицо Андерса и подумал, что эту пару фраз они тоже постараются использовать против него.
— Я безмерно рад, — сказал он, — что могу приветствовать одного из подлинных творцов современной истории и поздравить господина президента с проявленным русской армией героизмом в борьбе с Германией. Как солдат, я восхищен мужественной обороной Москвы.
— Благодарю вас, — сказал Сталин, но его слова прозвучали довольно сухо, — и рад видеть вас в Москве.
Даже когда они сидели за столом, они не переставали внимательно разглядывать друг друга. Перечень накопившихся дел, недоразумений, трудностей был довольно длинным, но самыми неотложными Сикорский считал военные вопросы. Черчилль явно подталкивал его к выводу, во всяком случае, к подготовке вывода польских частей из СССР в Иран. То же самое услышал Верховный от Андерса. Однако на это он так и не решился; речь шла теперь скорее об условиях, в которых формировалась польская армия в СССР. Правда, он не переставал думать и о волнующих его все время вопросах, постановка которых сейчас казалась ему сомнительной или преждевременной: границы, вопросы гражданства… Что думает Сталин? Считает ли он его марионеткой Черчилля? «Англичане не должны обсуждать с русскими наших дел», — сказал Кот. Он прав.
Сикорский начал беседу с борьбы польского народа с немцами, и у него сложилось впечатление, что Сталин доброжелательно слушает его. Рассказал о созданной в Польше военной организации, о действиях польского военно-морского флота, авиационных дивизионов. Однако, подчеркнул Сикорский, единственный людской резерв у них остался здесь, в Советском Союзе, но состояние вооружения частей неудовлетворительное, а условия формирования неподходящие. И уже более резким тоном произнес:
— Солдаты мерзнут в летних палатках, испытывают нехватку продуктов, можно даже сказать, обречены на медленное вымирание. — И заключил более решительно, чем намеревался: — Учитывая все это, я предлагаю вывести армию и весь людской потенциал, пригодный к военной службе, например, в Иран, где климат и обещанная американо-британская помощь позволили бы людям в короткое время прийти в себя и сформировать сильную армию. Эта армия вернулась бы потом сюда, на фронт, чтобы занять выделенный ей участок.
Сталин явно не ожидал этого и ответил раздраженно:
— Я человек опытный и старый, знаю, что если уйдете в Иран, то сюда уже больше не вернетесь. Вижу, что у Англии полно работы и ей нужны польские солдаты.
Вмешался Андерс. Сикорский удивился, что каждое слово генерала раздражает его. Андерс вроде бы хотел смягчить слова Сикорского, повернуть беседу на более конкретные темы: продовольствие, фураж, военная техника, но закончил неожиданно резко:
— Это же жалкое прозябание.
Сталин стал более раздражительным, беседа потекла живее, переводчики едва успевали переводить.
— Если поляки не хотят сражаться, — сказал он, — то пусть уходят, мы не можем их удерживать, не хотят — пусть уходят.
— Если бы мы завершили формирование армии, — возразил Сикорский, — то давно бы уже сражались. Но сколько времени потеряно впустую, причем не по нашей вине… В теперешних районах дислокации нет условий для обучения наших солдат. Предложите тогда иное решение.
— Если поляки не хотят сражаться здесь, — повторил свою мысль Сталин, — то пусть скажут прямо. Мне шестьдесят два года, и я знаю: где войско формируется, там оно и остается.
— Вы, господин президент, обидели нас, заявив, что наши солдаты не хотят сражаться.
— Я человек прямой и ставлю вопросы откровенно. Намереваетесь вы сражаться или нет? — спросил Сталин.
— О том, что мы хотим сражаться, — сказал Сикорский, — свидетельствуют не слова, а факты. — Он решил попытаться изменить тон беседы. У него складывалось впечатление, что она не затрагивает главных дел. Он ведь не хочет выводить польскую армию из России, речь идет лишь об условиях ее формирования, обо всем, что им двоим, сидящим здесь, мешает договориться. — Я готов, — сказал он, — оставить армию в России, если вы выделите для нее более подходящий район концентрации, обеспечите снабжение и размещение.
— Мы можем предоставить польской армии такие же условия, какие предоставляем Красной Армии.
— В прежних условиях мы не сформируем даже корпуса, — повторил Сикорский.
— Я понимаю, что условия неподходящие. — Сталин говорил теперь более мягким тоном. — Наши части формируются не в лучших, говорю вам честно; пока мы можем предоставить вам только такие условия, какие имеет наша армия. Если уж очень хотите, то один корпус, две-три дивизии, — продолжал он, — могут уйти. Или, если хотите, выделю вам место и средства на формирование шести дивизий.