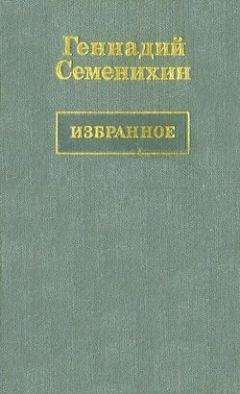И еще любил Виктор этот двухмоторный бомбардировщик за его приспособленность к дальним полетам, проходившим очень часто в облаках или за облаками, когда и земля-то не видна, да за уютность обжитой кабины. Раньше летал он и на Пе-2 и на СБ, но там приборная доска почему-то казалась ему сложнее и само расположение тумблеров, рычагов и кнопок не таким удобным, как здесь.
По глубокому убеждению Виктора Большакова, все летчики делились на три категории: на случайных, неприспособленных и прирожденных. Первая категория пояснений не требовала. Входили в нее люди, попавшие в авиацию по недоразумению. Чаще всего в пилотскую кабину их приводил юношеский порыв, а потом они уясняли, что авиация вовсе уж не такое романтическое занятие, каким казалось. Одни из этих случайных быстро выбывали: кто погибал в авиационных катастрофах, кто пользовался первым удобным случаем, чтобы списаться и как можно дальше оказаться от сложной, неподвластной ему машины, именуемой самолетом. Те же из них, кому не пришлось ни погибнуть, ни списаться, оставались в авиации тяжким грузом и составляли категорию неприспособленных, про которых инструкторы и командиры давным-давно сложили ходкую поговорку о том, что медведя и того научить летать можно. И наконец, третья, наиболее многочисленная категория – к ней, несомненно, принадлежал и сам Виктор Большаков – состояла из летчиков по призванию, влюбленных в авиацию и преданных ей «от дна до покрышки», как об этом говорил тот же полковник Саврасов.
Возможно, поэтому, немногословный и замкнутый на земле, Виктор Большаков словно оттаивал в воздухе. Черты его лица становились мягче, нижняя челюсть не казалась тяжелой, а зеленые глаза излучали добрый и нежный свет, и не было в них обычного ледка. Голос его тоже был добрым и мягким, когда окликал он по переговорному устройству членов своего экипажа или подбадривал их в минуты опасности. В полете ему приходили самые неожиданные мысли, и он любил им предаваться в ночной тишине и одиночестве, когда затерянной песчинкой в синем от звезд пространстве шел бомбардировщик к цели, ровно, без толчков и побалтывания, отчего скорость почти не ощущалась.
Сейчас Виктор испытывал легкое давление на уши. Самолет шел с набором высоты. Под широкими плоскостями «голубой девятки» уже промелькнули темными, едва различимыми контурами и маленький зеленый городок Бяла Подляска, и железнодорожный узел Седлец, и, наконец, приблизился, наплывая на огромный остекленный нос бомбардировщика, беленький, провинциально уютный Минск-Мазовецкий. «Кто же это мне говорил, – усмехаясь, вспомнил Виктор, – будто, когда у Пилсудского сдохла любимая собака, он велел поставить ей в этом городе на собачьей могиле обелиск. Интересно, правда это или брехня?»
– Гейдаров! – окликнул он стрелка-радиста.
И мгновенно с легким кавказским акцентом отозвался из хвостовой рубки сержант:
– Слушаю, командир.
– Передай, что прошли Минск-Мазовецкий и меняем курс.
– Есть, командир.
– Штурман, меняем курс, как настроение?
– Гвардейское, командир, – засмеялся в наушниках Алехин.
От прибавленных оборотов оба мотора с натугой завыли, и носовая часть самолета приподнялась. Земля теперь удалялась от них, поглощенная сумерками фронтовой ночи. «А все-таки она тихая, – подумал Виктор, – вот что значит летать не в сорок первом, а в сорок четвертом». И ему вспомнилось, как, бывало, с этим же самым экипажем ходил он на боевые задания суровой зимой сорок первого. Он тогда взлетал с Раменского аэродрома, а дальними объектами считались цели под Киевом, Полтавой и Львовом. И пока шли до фронта, даже в самую темную ночь, напоминала о себе земля пожарами, густыми струями пламени, с высоты казавшимися каплями крови на теле родной земли. «А теперь уже мы вырвались из плена, – подумал он, – сами наступаем».
Капитан вспомнил об экипаже. Он к нему очень привязался. И к застенчивому белявому штурману старшему лейтенанту Алехину, и к стрелку-радисту, всегда шумному, жгуче-черному азербайджанцу Али Гейдарову. Вот Пашков, нижний люковой стрелок, у него сегодня новый, с этим он не летал. Но в воздухе с пим будет поддерживать связь только Гейдаров, а у самого командира корабля лишь два радиокорреспондепта: штурман и стрелок-радист. Он их знал еще по сорок первому и доверял им беспредельно. Алехин увлекся математикой, а Гейдаров возил за собой с аэродрома на аэродром подаренную ему, как он говорил, еще дедом, зуриу и на досуге пел то длинные, как ночь, то стремительные, как ветер, родные азербайджанский песни. Его поддразнивали, часто спрашивая, хорош ли город Баку, и Гейдаров, скаля. от удовольствия большие белые зубы, хлопая себя по ляжкам, восклицал:
– Разве не знаешь, дорогой, разве не был у нас ни разу? Это такой город, такой город! Пальчики оближешь, когда попробуешь вино «карачанах», виноград «Шамхор», шашлык по-карски с гранатовым соусом. Всем угощу, когда приедешь.
А Большаков смотрел в такие минуты па Гейдарова и невесело думал: «Нет, не вернешься ты на родной Апшерон, дорогой Али, и угощать тебе никого не придется. Слишком легкая пожива для „мессершмиттов“ и „хейнкелей“ стрелок-радист тяжелого маломаневренного бомбардировщика».
Да, Большаков был прав в своих мрачных предположениях. Не проходило недели, чтобы кто-либо из командиров экипажей не сажал на летное поле самолет с убитым или тяжелораненым стрелком. И получалось обыкновенно так, что машины эти возвращались домой с двумя – пятью пробоинами или другими повреждениями, легко поддающимися устранению, а в кабине стрелка, под выпуклым сферическим колпаком, безвольно качалось на привязных ремнях тяжелое стынущее тело. Потом в вышестоящий штаб посылалось лаконичное донесение: мол, в течение ночи с такого-то па такое-то полк уничтожал заданную цель. Совершено столько-то боевых вылетов, сброшено столько-то ФАБов[2] и ЗАБов, противнику причинен такой-то ущерб. Все самолеты возвратились на свой аэродром. Потери: один стрелок-радист.
А утром у входа в столовую вывешивался траурный боевой листок. Из угрюмой черной рамки глядело на проходящих чье-либо до боли знакомое мальчишечье лицо.
Но Гейдарову везло. Три раза повидал он па близком расстоянии черные кресты «мессершмитта», сбил одного, и даже пулей тронут не был.
– Подходим к линии фронта, – послышался в шлемофоне голос Алехина.
– Слышу, штурман, – ответил ему задумавшийся Большаков.
Плавными движениями рулевой он установил новый курс. Набирающий высоту бомбардировщик снова выровнялся в синем ночном пространстве. Под правой его плоскостью, где-то в сторопе, лежал сейчас объятый сумерками городок Вышкув. Над линией фронта уже появились облака, но были они рваные, в их огромных разрывах зияла земля, но совсем уже не такая сонно спокойная, какой она была до сих пор на всем протяжении полета. Всполохи зеленых и белых ракет освещали прибрежные селения, и даже с высоты было заметно, что многие из них разрушены и мертвы, только у обгорелые каменных стен и в огородах прячутся танки и орудия да задымленные походные кухни. Виктор перевел медлительный взгляд налево и в разрывах облаков увидел желтые песчаные отмели. Нет, это можно было догадаться только, что они желтые. Сейчас при безжизненном ракетном свете войны было видно, как жадными острыми языками влизываются они в темную гладь реки. Висла, широкая и тихая, почти прямая в этом месте, с высоты казалась недвижимой. Ни одного баркаса не было па ее поверхности. Лишь тонкие трассы фланкирующих пулеметов секли воздух над самой водой.
«Вислу воспевали, называли красавицей, – горько усмехнулся Виктор, – чего же тут красивого в этих желтых плесах и желтых пулях над ними». И ему вдруг стало горько и больно оттого, что он так долго воюет. Сто тринадцать раз пересекал он линию фронта, и какая разница, в каких широтах? Сто тринадцать раз имел дело с зенитками, а иногда и «мессершмиттами», сто тринадцать раз напрягал волю, а нервы заставлял становиться бесчувственными. Сколько же придется еще?!
У Большакова было свое собственное отношение к войне. Он прекрасно понимал, что в ее большом водовороте он всего лишь затерянная, маленькая песчинка, что сила каждой из воюющих сторон: с одной стороны – его Родины, а с другой – мрачной фашистской Германии – состоит из миллионов таких песчинок, но все-таки считал судьбу свою одной из самых трудных солдатских судеб.
Круглый сирота, Виктор за месяц до войны в одном из сочинских санаториев повстречал повзрослевшую школьную подругу Аллочку Щетинину и женился на ней. На рассвете 22 июня он был вызван в полк по тревоге п в тот же день уехал на фронт, провожаемый тихой, беленькой, заплаканной Аллочкой. Почти в беспамятстве целовала она его горькими, пахнущими мятой губами и жалобно шептала, закрывая глаза:
– Как все это страшно, Витюша, как страшно. А что будет, если я стану к тому же и матерью?