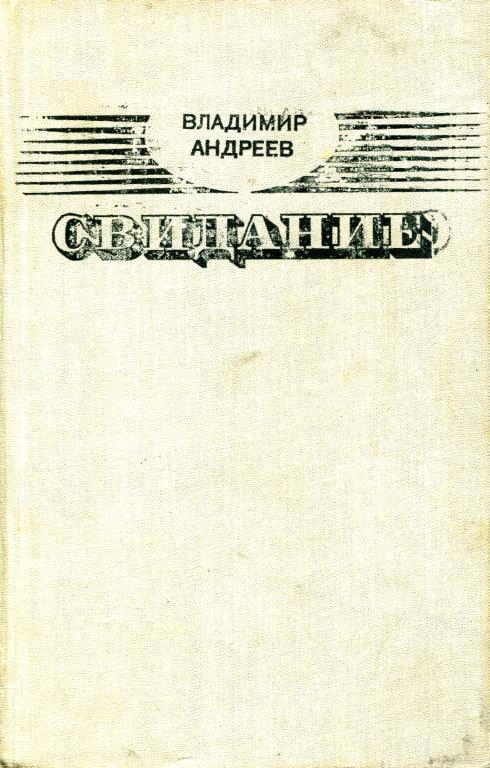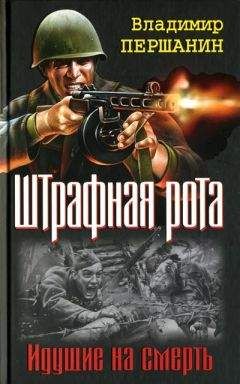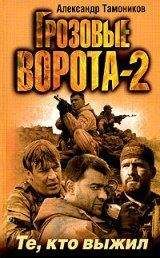свидания с женой. Жил до этого и никогда не думал, какая это жизнь, она текла своим чередом, и все казалось устоявшимся и привычным, и брал он в ней все, что положено, и никогда не приходило в голову, что все это может оборваться, что будешь вспоминать и ругать себя за спокойствие в той жизни, за привычку вставать утром в уверенности, что и завтра будет такое же утро и рядом будет Лиза. Не было последнего свидания. А в той прежней жизни за ее обыденностью и суетой ему сейчас вдруг показалось что-то важное упущенным, упущенным по его вине, по какой-то непонятной, недопустимой халатности.
Симоненко складывает аккуратно письма, завертывает снова в газету и перехватывает пачку резинкой. Тарабрин откидывается на траву, тянется, жмуря с истомой глаза, чувствуя даже сквозь веки, как палит солнце. Что-то в этой палящей жаре, в этом ветерке, который лениво порхнет по лицу, открывается старое, совсем недавнее.
— Сейчас, кабы не война, — произносит Тарабрин медленно, не открывая глаз, — закатился бы куда-нибудь. Ни тебе окопов, ни выстрелов, ни этой лопаты… Иди куда хочешь…
— А куда тебе идти, Тарабрин? В пивную да в кино, — замечает с усмешкой Симоненко.
— А что же? В пивную не плохо, — отвечает спокойно Тарабрин и поворачивается на бок. — Я любил знаешь как? В воскресенье, например, пойти на целый день. — Тарабрин оживляется. — Дева, конечно, рядом. На острова там или куда. И чего захотел — водочки, пива, мороженое разное, на лодке покатались, в кино зашли. Чтобы все удовольствия были. Я каждый день, как другие грамм по двести — по триста паяют там на троих, я так не люблю. Раз в неделю, и чтобы все, что душа захотела.
Симоненко неторопливо складывает свое имущество в мешок. Лицо его непроницаемо, но где-то около губ таится усмешка. Селезнев и Тарабрин знают: сейчас будет спектакль. И сам Симоненко знает об этом, поэтому не торопится. Завязывает мешок, аккуратно опутывает горловину бечевкой, потряхивает и поворачивает, оглядывая со всех сторон, потом лезет в карман за махоркой и начинает крутить «козью ножку» с таким видом, будто нет для него сейчас важнее дела, чем эта цигарка. Глаза его при этом опущены вниз, чтобы никто не видел их выражения. Но Селезнев, да и сам Тарабрин догадываются: сейчас Симоненко соображает, как лучше начать. Из всех присутствующих, пожалуй, только один Забелин воспринимает слова Симоненко всерьез.
— Эх, товарищ Тарабрин, — начинает со вздохом Симоненко, справившись наконец с «козьей ножкой», — твое времяпровождение — самая настоящая пустота. Пиво, лодочка, дева… Для головы, — Симоненко внушительно стучит себя по лбу, — для головы ничего нет. Понятно тебе? Отсталый твой уровень, Тарабрин. Нет чтобы каждую минуту поднимать его и каждое свободное время на это использовать, ты только брюхом занят. Понял? А ведь ты питерский, не из какой-нибудь там чухломы. С тебя пример должны брать, понял? — вздыхает горько Симоненко и снова затягивается цигаркой.
На лицах у Селезнева и Тарабрина блаженные улыбки: вот дает Симоненко. Откуда только набрался. А Симоненко доволен, окутал себя густо табачным дымом и, погасив в глазах хитрые огоньки, все больше и больше входит в роль.
— Нет чтобы на лекцию какую сходить, — укоряет он Тарабрина, — в планетарий на звезды и на разные светила посмотреть, книжку опять же можно в библиотеке интересную найти и девушку на этот счет просветить, он пиво хлещет… В культурном центре живешь, Тарабрин, пользоваться надо. Правильно я говорю, Забелин?
Забелин вздрагивает и недоуменно смотрит на Симоненко. Вопрос застал его врасплох. Моргая вылинялыми, белесыми ресницами, он растерянно кивает головой.
— Ну, вот и товарищ Забелин согласен, — продолжает удовлетворенно Симоненко. — Вот он тебе и сам сейчас скажет. Скажи, Забелин, ты по воскресеньям что делаешь?
Забелин переводит взгляд на Селезнева, потом на Тарабрина, хлопает глазами.
— В воскресенье? — задумчиво переспрашивает он. — У нас с двенадцати репетиция в театре была.
— Вот видишь, — вставляет тут же Симоненко, — уровень свой повышали.
— Так это же у них рабочий день, — серьезно возражает Тарабрин, зная, что теперь Симоненко не уймешь, а самое главное, чувствуя, что в этом спектакле козлом отпущения суждено быть уже не ему, а этому нескладному, неуклюжему Забелину. — В рабочий день я не говорю, — поясняет еще серьезнее Тарабрин. — А вот что он в выходной делал?
— Ладно, — соглашается снисходительно Симоненко. — Узнаем, что он делал в выходной день. Ты, Забелин, пиво пьешь?
— Нет, — отвечает простодушно Забелин.
— Вот видишь, — подхватывает Симоненко, метнув взгляд на Тарабрина. — А водку?
— Водку однажды выпил, — вспоминает Забелин и стыдливо улыбается. — После премьеры товарищи в ресторан позвали. Я и выпил. Да, видно, натощак. Рвало потом…
— Ну-ну, — строго смотрит Симоненко на Забелина, — зачем же ты?
— Да так получилось, — оправдывается Забелин, спуская глаза и совершенно смущаясь.
— Водку пить нельзя, — категорическим тоном заявляет Симоненко. — Яд. Это врачи говорят, и, значит, правда.
Забелин ерзает на шинели и глядит в сторону. Симоненко деловито притушивает в земле цигарку и, стараясь не выдать себя улыбкой, как можно добродушнее спрашивает:
— Так вот, что же ты в свой выходной делал, как время проводил? Это интересует.
— В выходной? — На лице Забелина такая искренняя задумчивость, такое волнение и сосредоточенность, что ребятам становится не по себе. — С утра я немного занимался. У нас не заниматься нельзя, — поясняет он. — День не поиграешь — сразу пальцы другие.
— А потом?
— Потом на Волгу пойду, по набережной пройдусь. Недалеко там нотный магазин есть, покопаюсь, посмотрю, какие новые ноты пришли.
— Вот видишь, товарищ Тарабрин, — бросает сухо Симоненко. — А после магазина?
— После обеда, значит, — вспоминает Забелин, — мы у одного товарища собирались, квинтетом Баха разучивали.
— Это что такое — квинтетом? — спрашивает Тарабрин.
— Пять человек, значит, — объясняет терпеливо Забелин, — две скрипки, виолончель, кларнет и контрабас.
— Вы что, готовились куда? — добродушно допытывается Симоненко.
— Нет, никуда. Просто самим захотелось. Бах — это такая музыка…
— Видишь, — тычет рукой Симоненко в сторону Тарабрина. — Баха учили.
— Ну, а вечером? — торопит Тарабрин, которому, видно, уже надоел спектакль.
— Вечером в выходной я дома сидел, — говорит Забелин. — У меня мама больная, а я и так все вечера в театре…
— И чего же ты делал?
— Да по-разному. Книжку почитаю, по радио концерт передают — слушаю.
— Все правильно, — резюмирует гордо Симоненко. — Культурный выходной день, как и положено. И не в Питере человек живет, а в обыкновенном рядовом городе. Учитывать надо, товарищ Тарабрин. А у вас пиво, водочка, лодочки, дева…
— Болтун ты, Симоненко, — говорит Тарабрин и поднимается.
Солнце уже перевалило на другую сторону поля, туда, за лощину. Припекать стало меньше. У окопа на бруствере, прикрытом свежими