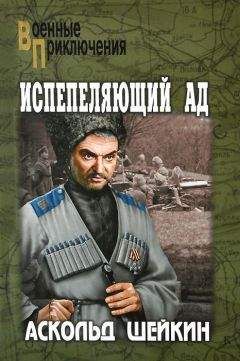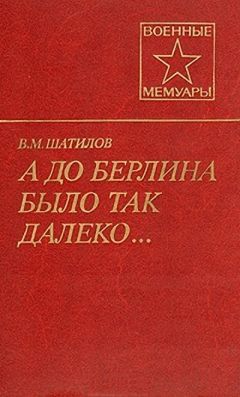— Уеду в свой старый полк.
— Где он? И это вас не спасет.
— Помогите мне попасть к брату. У него очень большие связи.
— Как я его отыщу?
— В Новороссийске. Служит на таможне.
— В Новороссийске, — со вздохом ответил Шорохов. — Туда перешла ставка. Попадете из огня в полымя.
— Др, может ты и меня отсюда вытащишь? — сказал сокамерник, подойдя и нагло уставившись на Шорохова. — Учти, любая услуга мне оплачивается здорово. Я — Бармаш. Ты про Новороссийск сказал. В любой хазе там на меня сошлешься, как бог будешь принят. Раскусил. Ты и твой этот жавер. И не волынь. Мне тоже стенка назначена. Сочтемся. За одного двоих даю. Идет?
* * *
Полковник Шильников, по внешности и манерам тоже старый тюремный служака, все понял сразу. Сказал, что стоить это будет семьдесят тысяч рублей деньгами южно-русского правительства. Шорохов, как положено солидному человеку, сделал вид, что колеблется. Полковник пояснил:
— У меня под ногами сейчас тоже склизко. Случай не простой.
Когда Шорохов отдал деньги, добавил:
— Давайте за второго столько же. Пусть катятся оба.
Шорохов вспомнил, как Бармаш сказал ему: "Грузчик я, что ли?" — сурово подумал: "Пусть получит свое" — и не ответил.
— Как знаете, — продолжал полковник. — Но деньги теперь разве деньги?
— Все так, — согласился Шорохов. — Мало ли кто и за что еще у вас тут сидит?
Промелькнула, впрочем, у него и такая мысль: "Не слишком ли много понял этот вор из их с Моллером разговора? И, вообще, не «подсадка» ли? Очень возможно".
Расстреливать увозили за город, когда темнело. Договорились, что за Моллером он приедет в санитарном фургоне около восьми часов. Ждать будет у тюремных ворот. Моллера вынесут на носилках.
Зайти к Васильеву времени не оставалось. Пошел на вокзал.
У дверей комендантского кабинета торчал больше часа, с каждой минутой все больше понимая, что выстрел в Манукова это дело расстроил. Но и кто должен был подойти? Закордонный? Семиглобов? Сам Мануков? А что если Моллер?
С вокзала же Шорохов попытался дать срочную телеграмму в Новороссийск, в миссию: "Известный вам Моллер Генрих Иоганнович находится военной тюрьме Екатеринодара приговорен расстрелу требуется срочное вмешательство чтобы сегодня отменить приговор всегда всегда ваш Дорофеев".
Телеграфный чиновник оттолкнул его руку с бланком:
— Нет линии.
— А военный телеграф? — спросил Шорохов. — У меня есть разрешение.
— Хоть военный, хоть гражданский, — ответил чиновник, — «Зеленые» столбы спилили, проволоку в горы уволокли. Дня через два, может, починят.
Дня через два!
Но зато во всеобщей сутолоке города, переполненного беженцами, достать на несколько часов санитарный фургон оказалось нетрудно. Подходи к любой из таких колымаг на улице, предложи одну-две тысячи, — ты договорился. Сложнее было найти место, где бы Моллера без лишних расспросов приняли. На Скрибного рассчитывать не приходилось. Никому другому Шорохов довериться в таком деле не мог.
До вечера он метался по лазаретам. Обещал любые деньги. Но требовалось еще одно непременное условие: как можно скорее вывезти Моллера в Новороссийск. Тут начинались осечки: "Не знаем когда… Не на чем… Не обещаем…" Договориться удалось лишь в лазарете Первой Кубанской пехотной дивизии.
В продолжение всего этого дня Шорохов иногда вспоминал о моллеровской записи. Хотелось взглянуть на нее. Не получалось. Ходьба, ходьба… Главным было другое. Всякий раз при этом начинала томить досада. Получил он запись обманным путем. В миссию передавать не собирается. С самого начала знал, что так сделает. А если это всего лишь нечто похожее на детский лепет?
* * *
К воротам тюрьмы Шорохов к восьми часам вечера подъехал. Довольно долго ждал. Калитка открылась. Встревожился: почему калитка? Или Моллер в состоянии ходить? Прекрасно. Что может быть лучше.
Из калитки вышел Бармаш. В моллеровском мундире, сидевшем на нем, как балахон.
— Ты! Ты! — закричал Шорохов, пытаясь схватить его за руку, за шиворот, за что придется.
Бармаш отолкнул его и побежал от тюремных ворот. Темнота была полная, но Шорохов все равно бросился за ним.
Остановило: "Ну, догонишь. Ничего это не даст".
— Ты что натворил? — войдя в тюремную канцелярию, спросил он у дежурного офицера.
— Ты за одного платил, — дежурный офицер упрямо крутил головой. — Предлагали, как человеку: "Давай за двоих".
Он опять был пьян. Шорохов повысил голос:
— Ты бандита освободил. Я с тобой о чем договаривался? Мне кого надо было?
— За одного платил, — повторил дежурный офицер. — Одного я тебе и отдал.
— Где второй?
Дежурный офицер указал на небо.
Шорохов понимал, как это произошло: Бармаш силой снял с Моллера мундир, назвался чужим именем. Наглый обман!
Может, Моллер еще в тюрьме? Все тут врут!
В камеру они пришли. Была она пуста.
В АМЕРИКАНСКУЮ МИССИЮ.
Я, Моллер Генрих Иоганнович, адьютант при Наконтразпункт № I 4-го ДОКК (Донского отдельного конного корпуса. — А.Ш.) 14 февраля с.г. около десяти часов вечера в квартире г-на Манукова Н.Н. (г. Екатеринодар. Казанская ул. д.17), случайно оказавшись в соседнем помещении (прихожая), слышал нижеследующий разговор г-на Манукова с Михаилом Михайловичем {фамилия, должность, звание мне неизвестны).
…Мануков:
— Ваш тон удивляет. В нем назойливость, ничего больше.
Михаил Михайлович:
— Зависит от крупности вопроса. Речь идет о документах, компрометирующих видных деятелей красной России. Такие сведения не могут принадлежатъ одной стороне. Иначе в чем мы союзники?
Мануков:
— Положим, вы правы. При всем том вас не удивляет, что большевики столько времени не придавали этим документам значения?
Михаил Михайлович:
— Во-первых, большевики вообще могли о них не знать. Скажем, если документы попали к генералу от частных лиц. Во-вторых, в красной России многие думают, что, если настоящее той или иной персоны по отношению к советскому строю безупречно, то прошлое можно не ворошить. Более того. Подобная точка зрения там проводится в жизнь. Вацетис — бывший полковник Генерального штаба, Каменев — то же самое, Бонч-Бруевич бывший генерал-лейтенант, Шорин — бывший полковник, Селивачев — бывший генерал-лейтенант. Выслужить такой чин при Николае Кровавом, как выражаются господа комиссары, было очень непросто. Верноподанность приходилось доказывать действиями решительными. Теперь все они командуют у красных фронтами. Что было — прошло. Отсюда пренебрежение в Совдепии к архивам вообще. Но мы-то с вами, слава богу, не комиссары.
Мануков:
— Ясно. Опасаетесь, что там обнаружится переписка Георга Пятого с Hиколаем Вторым. Если она будет опубликована, друзья-британцы этого вам не простят. Но ведь сколько-нибудь серьезные документы могут оказаться лишь в Петрограде.
Михаил Михайлович:
— В Петрограде!.. Архив жандармского управления сожжен в феврале семнадцатого года.
Мануков:
— Заметьте, сожжены самими его сотрудниками, значит, квалифицированно. Что в таком случае могло найтись в каком-то Козлове, Ельце?
Михаил Михайлович:
— Казаки были еще в Тамбове, Воронеже. Впрочем, почему вы столь решительно отбрасываете Козлов и Елец? Сейчас в любом захолустье может застрять что угодно. Прибудет с кем-то из беглых чиновников. Или, скажем, с таким господином, как вы. Стоит ли удивляться? Но только представьте себе: что если в этом достоянии окажутся документы, которые бросают тень, допустим, на товарища Ленина, на товарища Троцкого? "Трибуны революции перед судом фактов!" Звучит.
Мануков:
— Я понял. Вы преисполнены уверенности, что любой из красных лидеров непременно имеет пятна на мундире.
Михаил Михайлович:
— Боже мой! Такие пятна есть у всех и всегда. У белых, у красных, у монахов, у юных дев.
Мануков:
— У юных дев?
Михаил Михайлович:
— Пусть пятнышки. Вопрос субъективной оценки. В сознании человека даже малая точка может застить собой весь небосвод. И потому-то, замечу, биография любого вождя должна быть безупречна. Как подвенечный наряд. Лишь тогда вождь недоступен для шантажа. Да, так. И учтите. Стихия победила. Свою войну в России западный мир проиграл.
Мануков:
— Сказали — отрезали. Ваша манера.
Михаил Михайлович:
— Но вы-то, надеюсь, еще не забыли газетные вопли: "Париж. Верховный Совет Антанты отменяет экономическую блокаду России!" Было. Когда? Восемь недель назад. Как только красные захватили Ростов. Совпадение? Если бы!
Мануков:
— В те дни я был в Париже.
Михаил Михайлович:
— И ничего никому не смогли доказать.
Мануков:
— На заседаниях Совета тоже царила стихия.
Михаил Михайлович: