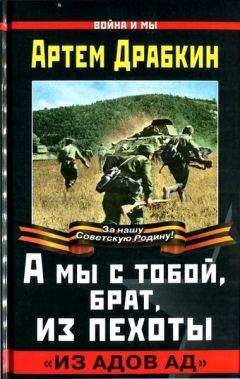Остальные — или погибли, или попали в плен…
Гибель товарищей по лыжному батальону никогда не давала мне покоя, все произошедшее в то утро постоянно возвращалось ко мне, и я решил, что волею случая остался жив только для того, чтобы узнать, как все случилось на самом деле.
После войны я написал письмо в военкомат в Новосокольники, но военком мне ответил, что такой деревни в районе нет и ни о каком лыжбате он не слышал.
Я не успокоился, снова послал письмо в район, и пришел ответ из села Окни, от председателя колхоза, который сообщил, что деревушка Климово после войны слилась с деревней Окни в один населенный пункт и что погибшему лыжбату поставлен памятник…
— С «особистами» на фронте еще сталкиваться лично приходилось?
— Да. Один раз, в конце сорок второго года, они пришли меня арестовывать.
Мы наступали, и наши тылы безнадежно отстали, застряли на занесенных снегом дорогах. Лошади, тянувшие повозки и сани с боеприпасами и провиантом, стали дохнуть с голоду, так роты поочередно снимали с передовой и заставляли бойцов в ближнем тылу голыми руками рыть снег и искать под ним фураж. Я возмутился вслух. Уже через час за мной пришли два «особиста», как они выразились — «за моим длинным языком».
Я им говорю, что на «нейтралке» гниют две огромные скирды сена, а нас снимают с передовой и заставляют черт знает чем заниматься. Особисты: «Где ты видел скирды?» — «Напротив позиций нашей роты». — «Покажи», — смотрят в бинокль. — «А притащить можно?» — «Да, там дорога рядом». — «А ты готов пойти?» — «Так точно».
Вечером приготовили трое саней и ночью совершили «рейд за сеном». А на вторую ночь, когда мы снова подъехали к скирдам, немцы нас обнаружили и обстреляли, убили одну лошадь, ранили бойца, а у меня шинель в трех местах была пробита пулями…
— У Вас лично был страх оказаться в штрафной роте?
— Нет. Мы в какой-то степени даже завидовали штрафникам.
В наступлении к нам постоянно придавали штрафные части, и нередко в бою штрафники и «обычные» пехотинцы смешивались и действовали вместе.
После боя командир полка передавал остатки штрафников дальше, а мы продолжали воевать. И кому было легче? Они в одну атаку сходят, а потом «кто в могилу, кто по домам», а мы воюем до третьего пришествия…
Если я чего на войне боялся, так только одного — попасть живым в плен. Всегда при себе держал гранату, чтобы успеть подорваться. Как-то зимой нас перебросили на другой участок, и на голом месте, прямо на снегу, мы стали занимать оборону.
Меня с одним бойцом послали в дозор, вперед, метров на триста, залегли в воронке. Кажется, со мной вместе в ту ночь был Саша Мокрушин, парень из Сочи.
Неожиданно сзади раздалась немецкая речь. Мы смотрим, идет со стороны наших позиций свыше полусотни немцев. Я достал гранату, приготовился рвать чеку и жду. Товарищ взял автомат на изготовку. Но как поступить? Если откроем огонь — верная гибель… Решили, что, если нас обнаружат, подрываемся. Но немцы прошли в десяти метрах и не заметили нас. Когда немцы прошли, то товарищ долго не мог вырвать гранату из моей руки, настолько крепко я ее зажал от дикого напряжения…
И когда несколько раз по ночам в стрелковую роту приходили дивизионные разведчики, ходили по траншее и агитировали к себе, я не хотел идти к ним, поскольку знал, что вероятность оказаться в ситуации, грозящей возможным пленом, у разведчиков больше, чем у простого пехотинца. Но пришло время, и достала меня окопная жизнь до самого края, и я сам, добровольно, попросился в дивизионную разведроту.
— Как награждали в пехоте?
— Рядовые бойцы наград почти не видели…
Ордена на войне, по большому счету, имели до середины сорок четвертого года только офицеры, «штабные» и летчики, в авиации на награды не скупились. Очередь до относительно честного награждения рядовых солдат дошла только в конце войны.
Я помню, как в сорок втором, когда втроем тянули кабель через Дон, создавая «паромную переправу» для захвата плацдарма, то всем пообещали ордена.
И действительно, одному из нас не орден дали, а присвоили звание Героя Советского Союза, и, чтобы его потом немцы в каком-нибудь бою не убили, Героя отправили служить, «на сохранение», в редакцию дивизионной газеты… Но двум другим не дали ни ордена, ни медали… Пехоту очень слабо награждали.
Я вообще войну закончил «с пустой грудью», только несколько нашивок о ранениях на гимнастерке. После войны, когда разведрота заступила на охрану штаба дивизии, меня заметил на посту комдив. Поглядел на меня: «Солдат, почему не награжден?» — «Наверное, не заслужил, товарищ генерал». — «Сколько раз ранен?» — «Четыре». — «Где был?» — «Везде. Начинал пулеметчиком на Дону летом сорок второго, а в вашей дивизии — с осени сорок третьего». Командир дивизии на месте распорядился, чтобы на меня заполнили наградные листы, и своей властью вручил орден Красной Звезды и медаль «За отвагу»…
— Так почему Вы приняли решение уйти из пехоты именно в дивизионную разведроту? Вы парикмахер по довоенной специальности, и при желании человек с такой профессией в армии мог спокойно пристроиться в том же штабе полка, стричь и брить начальников. Идейным комсомольцем Вы никогда не были, от Советской власти Ваша семья добра особо не видела, и тем более к тому моменту Вы уже два года честно отвоевали рядовым бойцом на передовой.
— Вы правы, но я не имел никакого желания «воевать парикмахером» и искать теплое место в армии. Хватило мне и двух месяцев службы старшиной в санбате.
С этим я для себя определился еще в начале войны. Мне надо было мстить за свой народ. А как иначе… Я мог несколько раз уйти из стрелковой роты на курсы младших лейтенантов (где на малограмотность не смотрели), но не захотел…
Главную причину, подвигшую меня на такое решение, я вам уже объяснил — просто жутко устал от пехотной жизни, от грязи, голода и вшей, от полного физического и морального истощения. Но не устад от ежедневных смертей на моих глазах, к этому я уже настолько привык… И убивать немцев тоже стало для меня очень привычным делом. Но были еще причины, повлиявшие на решение уйти в разведку.
— Какие причины?
— Вы плохо себе представляете, как в пехоте относились к евреям.
Постоянные разговоры про «жидов в Ташкенте», о «пархатых жидах в штабах».
Я «встревал», и меня спрашивали: «Что ты так евреев защищаешь? А ты сам жид, что ли?» — «Да!» — «Не бреши, все жиды в Ташкенте»… И так все время…
Еще на призыве писарь, услышав мое имя — Эля, заявил, что таких имен он не знает, и записал меня Алексеем. Мне мои товарищи по роте говорили, чтобы я убрал букву «х» из фамилии и записался Гетманом, а не Гехтманом, и тогда спокойно сойду за украинца — «Алексей Григорьевич Гетман». Я не соглашался. На передовой, когда многократно остатки разбитых частей сливались в одну, можно было при желании записаться хоть русским, хоть узбеком, да кем угодно. Но я не менял судьбу…
Кроме одного случая. Во время формирования очередного сводного полка писарь, заполняя данные, меня спросил, желаю ли я, чтобы меня дома считали убитым, и если да, он отошлет «похоронку» родным. И я кивнул в ответ. С тех пор для родных я считался «погибшим» и позволил себе «воскреснуть» только после войны…
После окружения, когда я попал в другой батальон, на моих глазах произошел один случай. Лежим в окопах, немцы ведут сильнейший, невыносимый огонь по нашим позициям, головы не поднять. Рядом со мной лежит солдат, пожилой еврей из Одессы. Появляется ротный, присмотрелся к бойцам, лежащим на дне траншеи, и командует ему: «Наблюдай за «нейтралкой», жидовская морда!» Одессит ему отвечает: «Что тут наблюдать? Я только высунусь, меня убьют!» — «Я приказываю!» — «На, радуйся!» — и одессит только поднял чуть голову на бруствером и сразу получил пулю в лоб, упал мертвым на дно окопа. Ротный посмотрел на его труп и сказал: «На одного жида меньше стало!»… Я не могу вам передать никакими словами, что я чувствовал в эту минуту…
На передовой ротные и взводные менялись «как перчатки», но ранним летом сорок четвертого года нашу роту принял под командование капитан Истомин, пожилой мужик лет 40–45, служака из запасников. Истомин был неплохим командиром, продержался у нас долго, но был у него один «пунктик»: евреев он ненавидел… И тут ему подвернулся момент меня «достать». Когда мы наступали в Латвии, то шли во втором эшелоне.
Я нарвался на землянку, чей-то продуктовый склад, и взял оттуда три каравая хлеба и три шматка сала, все принес товарищам в роту, поделили на всех бойцов.
Кто-то «стукнул» Истомину, и он приказал построить роту.
Меня Истомин вывел на середину, достал из кобуры пистолет и сказал: «По приказу командования ему положен расстрел за мародерство. Что скажет рота?»