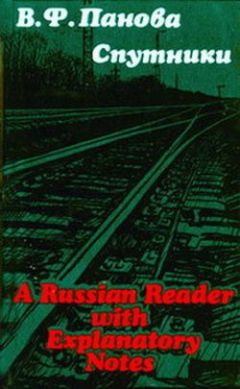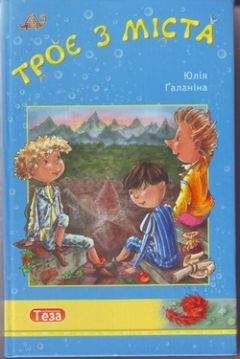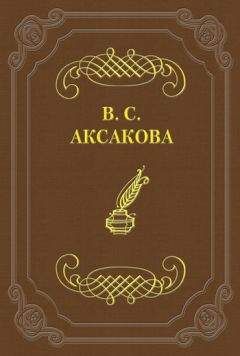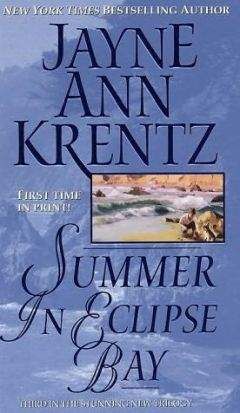– Вон мой поезд, – сказала она.
– Да? – сказал он. – А мы на Варшаву. Будем брать Варшаву. Как вообще твои дела? Ты похудела…
– Даня, – сказала она, – я не хочу говорить, мне хочется смотреть и слушать… Смотри на меня. Почему ты не писал?
– Как не писал? – сказал он. – Я писал. Вероятно, не доставили. – Он помолчал, озабоченно глядя на нее. – Как мы встретились, Леночка…
– Ты живой! – сказала она и погладила ладонью его лицо. Он слегка отодвинулся:
– Не надо, Ленок.
Она ничего не замечала. Счастье сделало ее слепой.
– Я смеюсь, знаешь, почему я смеюсь? Я не знаю, почему я смеюсь… Милый, смотри, все побежали, разве уже сейчас?
– Да, сейчас, – пробормотал он и зашагал к поезду, она рядом с ним. Досадно, не успел набрать кипятку. У нас времянка, но набрать проще…
– Я только что отправила тебе письмо, – сказала она и не отводила глаз от его лица. – Лучше бы я тебе отдала. Ты получаешь?
– Нет, – сказал он. – То есть, конечно, получаю. Сейчас я, собственно, даже не знаю, как ко мне писать…
Они стояли около теплушки. Два офицера стояли в открытой двери, курили и смотрели на них сверху.
– Я люблю тебя! – громко сказала Лена, обняла его и потянулась поцеловать.
– Ленка! – сказал он. – Я не хочу обманывать. – Он взял ее за локти, виновато пожал. – Прости меня. Так случилось, знаешь… Я женат.
Она смотрела на него. Она не поняла, что он сказал. Кто кого обманывает? Что простить? Он женат? Конечно, он женат, она его жена…
– Так вышло, – продолжал он вполголоса. – Такая нам, видно, судьба – планида… – Он неловко улыбнулся. – Я встретился с одной женщиной. Не обвиняй меня, Леночка, эти вещи делаются помимо нашей воли, ты знаешь… С одними война разлучает, с другими сближает… Конечно, комнату и прочее ты забирай себе, – прибавил он скороговоркой, брезгливо сморщившись.
Какие вещи? Почему забирать комнату? Он думает, что его убьют?…
– Прости, – повторил он, опуская глаза под ее взглядом.
Вдруг она поняла. У нее опустились плечи.
Он говорил, запинаясь:
– Я много думал: почему так получилось?… Не знаю. Может быть, мы слишком быстро пришли друг к другу. Слишком внезапно… Был угар. И когда мы разлучились, он прошел…
– У меня не прошел, – сказала она серыми губами.
Он не расслышал слов, но угадал их смысл – по ее глазам, по движению ее головы.
– Ты сумела это сберечь…
Она повернулась и пошла от него.
Вложив руки в карманы, она шла медленной, тяжелой, чужой походкой.
Она шла изнемогая. Любовь, дававшая ей силу, красоту и радость, теперь давила ей плечи, как тяжкий крест. Этот крест она будет нести до тех пор, пока не найдет сил сбросить его с себя.
Данилов не особенно любил природу. Вернее, он о ней как-то не думал: он вырос среди лесов и полей и не замечал их красоты. Глядя на тучные, в цветах, луга, он думал: «Сено нынешний год будет хорошее». Видя лес, думал: «Вот где стройматериалу-то!» Его занимали люди, их дела и взаимоотношения.
Но на пути к Варшаве даже он был поражен красотой лесного пейзажа. Сплошная, чистая, без примеси ель росла по обеим сторонам дороги. Каждое дерево было так статно, пышно, богато – на подбор, как отборная рать; и все тонуло в лебяжьей, незапятнанной белизне только что выпавшего снега. Снег лежал пластами на широких лапах елей; застревал между веточками круглыми нежными пушками. «Сказка!» – думал Данилов, стоя на площадке, щуря глаза от этой серебряной белизны, плывущей мимо молчаливо и величаво в сиянье своей прелести и непорочности… Солнце, спускаясь, ненадолго осыпало снега розовыми блестками, потом малиновыми. И закатилось, и мягкие голубые тени, как благословение покоя, легли в лесу… Поезд остановился.
Его остановил небольшой отряд бойцов, русских и поляков. Командиром у них был молоденький младший лейтенант. Валенки бойцов были покрыты снегом до колен. Снегом были посыпаны их ушанки и плечи. Они вышли из глубины этого богатырского леса.
Младший лейтенант просил подвезти их: они ехали ликвидировать банды, которыми кишели леса вокруг Варшавы.
– Домашнее дело, – сказал лейтенант. – Немцы чисто все поутекали, остались бандиты с одними пулеметами – орудия немцы увезли. В Червонном Бору только вчера истребили последнюю банду.
Поезд имел путевку в Червонный Бор.
Отряд разместили в штабном вагоне и напоили чаем. Через два прогона бойцы вылезли.
Поздно вечером, среди леса, поезд принимал раненых. Госпиталь помещался в четырехэтажном, одиноко стоящем здании, без всяких пристроек, чопорной и красивой архитектуры.
Из леса, не туша ярких фар, выкатывали автомашины с ранеными. Погрузка шла быстро. Часа через три поезд двинулся обратно. Раненые были прифронтовые, недавно с поля боя.
– Знаете, – сказал доктор Белов Данилову, – в шестом вагоне едут две женщины. Офицеры. У одной нога ампутирована до бедра. Очень досадно, знаете, пришлось положить их в жесткий, в кригерах совсем нет мест.
В кригерах не было мест, потому что в этот рейс было особенно много тяжелораненых. Даже изолятор был заполнен ими.
Данилов, совершая утренний обход по вагонам, заглянул к раненым женщинам. Они лежали в крайнем купе; по приказанию доктора Белова купе было занавешено простыней. Данилов осторожно заглянул. Женщины спали одна почти ничком, зарыв лицо в подушку; подрагивал от толчков поезда ее стриженый белокурый пушистый затылок; другая натянула простыню почти до переносья, лоб у нее был в морщинах, волосы седые, среди седины несколько угольно-черных прядей, а веки большие, очень темные. Такая усталость и такая скорбь были в этих плотно опущенных веках, что Данилов отошел на цыпочках и шепотом сказал дежурной санитарке Ваське:
– Тут женщины у тебя едут – ты их не беспокой, пусть спят. Заглядывай почаще, но не тревожь. А то я вас знаю, вы чем свет начинаете людям градусники тыкать…
Васька побаивалась Данилова. Она сейчас же разыскала сестру Смирнову и сказала ей:
– Были замполит, велели женщин не беспокоить, нехай спят.
То же самое она сказала сестре Фаине.
И Смирновой, и Фаине было не до спящих женщин, – они сбивались с ног: рейс был трудный.
Утро пришло хлопотливо. Ни один человек не вернулся к обеденному часу в штабной вагон, кроме Супругова.
– Я привык к режиму, – говорил Супругов. – Правильный режим – залог работоспособности.
Он снял халат, вымыл руки и с удовольствием сел к столику, на котором в тарелках, прикрытых белоснежной салфеткой, уже был подан обед. Пришел Соболь.
– Где они все, вы мне скажите? – спросил он. – Порции стынут, я же не имею физической возможности подогревать по десять раз.
– Придут, – отвечал Супругов, поднимая салфетку. – О, что я вижу!..
– Да, – глубоко вздохнул Соболь. – В груженые рейсы кушаем, как дай бог было кушать в тысяча девятьсот сороковом году…
Разговор был прерван стуком в дверь – громким, неделикатным стуком. Стучала Смирнова.
– Доктор, – сказала она не своим голосом, – идите скорей в шестой вагон.
– Что такое? – спросил Супругов.
Он только что насадил на вилку кусок жареной свинины, смазал его горчицей и увенчал колечком лука.
– Раненая рожает, – сказала Смирнова.
Супругов не понял:
– Как рожает?
– Ну, обыкновенно как, – грубо ответила Смирнова. Ее обозлила эта вилка с куском мяса, которую благоговейно-неподвижно, торчком, держал перед собой Супругов. Вышибить бы у него тарелку из-под носа… Смирнова была молода, горяча, – все ее нехитрые переживания отражались в ее хмурых серых глазах…
– Растрясло ее, вот и рожает, – объяснила она. – Та, что без ноги.
Супругов отправил свинину себе в рот и закусил кусочком хлеба. Глаза его наполнились слезами: от горчицы.
– Позвольте, – сказал он, прожевав, – ведь у нее в эпикризе ничего не сказано о беременности?
– Не сказано.
– А старшая сестра там? – спросил Супругов.
– Старшая сестра в девятом вагоне, у припадочного. Они все там.
– А Ольга Михайловна?
– В кригерах, на перевязках.
Супругов подумал. Вот всегда так: когда экстренный случай, все оказываются занятыми. А он при чем? Он не акушер. Ухо, горло, нос… Он не обязан быть повивальной бабкой.
Супругов сказал:
– Почему паника? Уж кто-кто, а вы, женщина, должны уметь оказать помощь в таких случаях.
И, с удовольствием видя, что Смирнова побагровела и в ее откровенных глазах выразилось желание прихлопнуть его на месте, он, вставая, сказал:
– Идите, я сейчас приду.
Но когда, вымыв руки и надев халат, он пришел в шестой вагон, там уже хлопотали Ольга Михайловна и Юлия Дмитриевна, вызванные Васькой. Супругов с брезгливым любопытством взглянул на рожавшую женщину. Конвульсии сводили ее большое, с высоким животом тело, накрытое простыней. Седая голова с уцелевшими кое-где черными прядями металась по подушке.